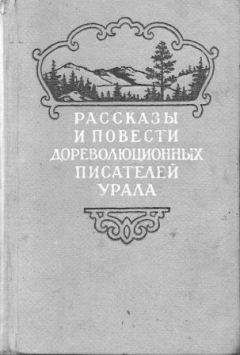П. И. Заякин-Уральский
В плену у железа
Все это было недавно, и в памяти еще ничего не потускнело, все отчетливо рисуется воображению, и многое чувствуется остро, до боли.
Передо мной, как наяву, знакомая картина: большой зеркальный пруд с отлогими берегами, где растут, отражаясь в воде, камыши и ивы; широкая плотина с рулем и перилами со стороны пруда, а с другой стороны — неуклюжий и закопченный доменный корпус, высокий дощатый забор и торчащие из-за него черные заводские трубы; дальше, на горе, небольшая белая пятиглавая церковь, полукаменный управительский дом с большим тенистым садом и стройные ряды однообразных обывательских домиков с палисадниками перед окнами.
Это родной завод на Урале. Здесь я родился, вырос и провел юношеские годы. И много здесь пережито…
Жизнь на заводе тянется лениво, монотонно и скучно. Всякий новый день бывает повторением предыдущего. Сегодня, как вчера; вчера, как сегодня. Сходство людей тоже поразительное.
Рабочие с характерными для заводских людей красными лицами, грязные и угрюмые, как старые, так и молодые, кажутся автоматами, прыгающими около раскаленного железа под грубые окрики мастеров и смотрителей.
Служащие нудно и однообразно тянут лямку: кто в цехе, наблюдая за рабочими, кто в конторе, щёлкая на счетах или скрипя пером, и только по внешности отличаются некоторой опрятностью костюмов, но их лица, как и лица рабочих, буднично хмуры и не одухотворены.
Но три-четыре раза в течение года заводская жизнь выходит из рамок однообразной обыдёнщины: завод затихает, не дымят черные трубы, не кричит гудок и не спешат в цеха рабочие. Огромные корпуса стоят мрачные и тихие, как будто грустят о прекратившемся в них шуме и грохоте и о покинувших их рабочих. Только одна доменная печь, действующая безостановочно по два-три года, дымится и пышет пламенем, и только к ней тянутся возы с рудой и углем. Бывает это на рождестве, на пасхе да в летнюю страду.
Причастный с детства к этой жизни, но теперь оторванный от нее, воскрешаю в памяти прошлое, уношусь мыслью в родную глушь, где была колыбель первых проблесков моего сознания и могила светлых снов моей ранней юности, уношусь и с грустью думаю: «Как близко и как далеко все это. Оно пережито и ушло без возврата… Передо мной другая жизнь — огромная, шумная и яркая… Но так живо все родное».
Воспоминания, как белые лебеди, проносятся вереницей, одни образы и картины сменяются другими, знакомые лица улыбаются тепло и приветливо.
Отчетливо рисуется старый, сгорбившийся, седовласый дед, и вспоминаются его тихие ласки и рассказы о старине, всегда завлекательные, хотя и грустные.
Сидим с дедом на меже у полосы золотистой пшеницы. Незаметно угасает знойный и яркий день. Ласково сияет голубое небо, начавшее темнеть. Перед нашими взорами блестит, как шлифованная сталь, спокойный, задремавший пруд в зеленых берегах. Дед сидит молча, устремив мутный старческий взор в синюю даль, и тихо ласкает меня осторожным прикосновением руки к голове. Я тоже молчу и изредка посматриваю на него с тайным желанием в душе начать разговор. На берегу пруда пищат кулики и квакают лягушки, а в хлебах, чувствуя приближение ночи, трещат коростели.
— Дедушка, расскажи что-нибудь! — робко говорю я, выводя деда из задумчивости.
— О чем же рассказать? — спрашивает, встрепенувшись, старик и любовно глядит на меня.
— О чем-нибудь давнишнем…
— Да о чем?
— Расскажи, как строили завод?
— Ну, ладно, слушай.
Припадаю головой к груди старика, предвкушая удовольствие от рассказов, а он дряхлой рукой гладит мои волосы и начинает повествовать:
— Завод построен давно — старики этого не помнят. Знаем только, что рабочие как-то взбунтовались и все фабрики разорили. Случился взрыв домны, и газом людей сожгло. Человек пятьдесят пострадало. Некоторые дотла сгорели — косточек не осталось. Рабочим обидно стало — подняли бунт. Не любили завод.
Когда началась постройка завода, то всех здешних закрепостили владельцу. Но рабочих все-таки не хватало, и тогда стали высылать к нам людей из других губерний. Приедут высланные и все жалуются, что их насильно в работу послали. Случалось, приходили беглые, которые от помещиков убегали, и их тоже брали в работу. Эти думали, что найдут жизнь лучше, а попадали из огня да в полымя. Наши тоже жаловались, что воли лишились и в кабалу попали. Так все стон стоном стоял. Ну, а как подошел случай, — пошли громить. Все разрубили. Корпуса, печи и машины были разрушены. Плотину водопольем размыло. Сам помню развалившиеся стены да сломанные шестерни и колеса. Над развалинами стояла одна высокая черная труба.
Этого широкого пруда не было. Бежала только узкая речка Синеструйка. По берегам ее росли камыши и кустарники. Много водилось в этих камышах всяких птиц…
Селение было небольшое, с кривыми улицами и покосившимися избами. В окнах вместо стекол вставлялась брюшина. Теперь у купцов да у служащих полукаменные дома с зелеными крышами да с резными крашеными ставнями. Прежде таких построек не было. Завод нынче стал как город, а прежде был как худая деревушка.
Торговцев у нас прежде не было, а служащие жили так же бедно, как и рабочие. Положение для всех было одинаково — все были крепостные. Бывало так: сегодня служащий в конторе за столом сидит, а завтра его отправят на домну флюсовый камень дробить. Сделает какой-нибудь проступок — и в наказание в работу отдают.
Крепостной народ жил беднее, скромнее и тише. Отец мой и все старики рубили в курене[1] дрова на урок — пятина в день[2]. Если кто не выполнял урока, — стегали розгами и били палками. Ленивых и неисправных в солдаты сдавали. От солдатчины многие скрывались. Убегут в лес и не выходят с месяц. Пройдет время сдачи — и остаются дома.
За побег, конечно, пороли розгами. Расправа была крутая и жестокая, часто пороли и без вины. Я испытывал это на себе. Меня взяли на работу в рудник четырнадцати лет и заставили из штольни руду таскать.
Носилка с рудой была тяжелая, не под силу мне, и за то, что я не мог ее полной нести, надсмотрщик бил меня палкой. Как бил? Ударит — армяк треснет. Весь съежишься, слезы брызнут из глаз, взглянешь на палача плачущими глазами, чтобы не бил, а он снова хлещет. Плачешь, из сил выбиваешься, но все-таки несешь груз. Да, были времена, каких не дай бог!
Растроганный дед обрывает речь и, тяжело вздохнув, смотрит на меня грустными глазами, но в его взоре, кажется, светится радость, что такие жестокости больше никогда не повторятся, его малолетнего внука не заставят нести непосильный груз и не станут бить палкой.
— Вот приехал к нам из Питера доверенный владельцев. Начали поднимать и устраивать заброшенный завод. У нас все были рады — работа будет дома.
Пока завод не действовал, всех наших рабочих отсылали в курени, в рудники и на другие заводы, верст за пятьдесят. Дороги были плохие, и провизию приходилось доставлять с трудом. Рабочие нередко сидели там голодом по двое, по трое суток, а один раз жили в курене без хлеба целую неделю. Служащие были неграмотные, писать не умели, только на дереве — рубежи назывались — вырезали знаки. Куренный мастер послал на завод с рубежом за провизией, а там его рубеж не поняли и провианта не отпустили. Ну, рабочим и пришлось голодать, пока мастер сам съездил на завод.
Вот такое темное время было! Прежде школ не знали, учиться негде было, да никто и не думал об ученьи. Я вовсе неграмотен, а детей своих учил. Нанимал пономаря обучать их читать псалтырь. Нынче вот хорошо — для всех есть школы…
Дед помолчал, занятый мыслями, и снова полилась его речь:
— Нынче все грамотны, а люди хуже стали. Прежде друг за друга крепко стояли. Мне отец рассказывал, как весь округ против тиранства заводчиков восстал. Народу сенатские указы объявляли, чтобы вое на работу шли. А народ отвечал: «Много мы слыхали указов, в них только наши провинности объявляют, а о том, сколько заводчик крестьян насмерть истерзал да голодом заморил, ничего не говорится». После этого войска пригнали с ружьями да с пушками. Народ тоже вооружился топорами, вилами, косами, оглоблями. Стали переговоры вести. Ничего не вышло. Вое говорят: «Хоть головы рубите, а на работу не пойдем». Тогда генерал приказал схватить человек десять да сечь плетями. Народ на войско бросился, началась свалка, много было избитых. Потом те и другие отступились, а на другой день снова сражение пошло. Войско из пушки палило. В конце концов крестьяне сдались. Человек триста в тюрьму свезли. С год держали их в тюрьме, а потом отпустили. Все вышли худые, избитые, заморенные, рассказывали, что в тюрьме их били, пытали, на хлебе и на воде держали, терзали немилосердно.
— Ну, а как завод?
— Эх, заговорился я, миленький! Ну, слушай дальше. Завод пустили в действие. Я к тому времени вырос и женился. Работал на фабрике. На завод приехал управляющий — немец и ввел строгие порядки. Приказал обнести завод забором саженной высоты. Выстроил ворота и сторожевые будки. Всех рабочих, выходящих из завода, начали обыскивать. У каждых ворот поставили сторожей. Они обшаривали людей с головы до ног. Так и поныне ведется. Ничего не поделаешь.