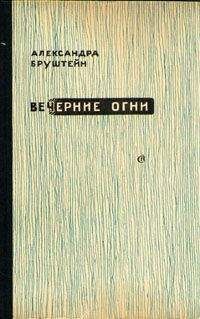Андрей Белый
Собрание сочинений в шести томах
Том 2. Петербург
Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Что есть Русская Империя наша?
Русская Империя наша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых — великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых — грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих, она заключает… Но — прочая, прочая, прочая.
Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: — из первопрестольного града и матери градов русских.
Град первопрестольный — Москва; и мать градов русских есть Киев.
Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же) подлинно принадлежит Российской Империи. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия. И о нем распространяться не будем.
Распространимся более о Петербурге: есть — Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть петербургский Проспект.
Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов — и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть — гм… да: …для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.
Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он — европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что… да…
Потому что Невский Проспект — прямолинейный проспект.
Невский Проспект — немаловажный проспект в сем не русском — столичном — граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.
И разительно от них всех отличается Петербург.
Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду — существование полуторамиллионного московского населения — то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.
Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.
Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается — на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он — есть: оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.
Глава первая,
в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия
Была ужасная пора.
О ней свежо воспоминанье.
О ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье, —
Печален будет мой рассказ.
А. Пушкин
Аполлон Аполлонович Аблеухов
Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода: он имел своим предком Адама. И это не главное: несравненно важнее здесь то, что благородно рожденный предок был Сим, то есть сам прародитель семитских, хесситских и краснокожих народностей.
Здесь мы сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи.
Эти предки (так кажется) проживали в киргиз-кайсацкой орде, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Так о сем выходце из недр монгольского племени распространяется Гербовник Российской Империи. Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов в Аблеухова просто.
Этот прапрадед, как говорят, оказался истоком рода.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серый лакей с золотым галуном пуховкою стряхивал пыль с письменного стола; в открытую дверь заглянул колпак повара.
— «Сам-то, вишь, встал…»
— «Обтираются одеколоном, скоро пожалуют к кофию…»
— «Утром почтарь говорил, будто барину — письмецо из Гишпании: с гишпанскою маркою».
— «Я вам вот что замечу: меньше бы вы в письма-то совали свой нос…»
— «Стало быть: Анна Петровна…»
— «Ну и — стало быть…»
— «Да я, так себе… Я — что: ничего…»
Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов прошествовал в кабинет.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение: придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил… пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости, прежде чем сообразить, что в руках у него пресс-папье, а не карандаш.
Рассеянность проистекала оттого, что в сей миг его осенила глубокая дума; и тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход (Аполлон Аполлонович спешил в Учреждение). В «Дневнике», долженствующем появиться в год его смерти в повременных изданиях, стало страничкою больше.
Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович записывал быстро: записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофей свой.
Предварительно с какою-то неприятной настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика:
— «Николай Аполлонович встал?»
— «Никак нет: еще не вставали…»
Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу:
— «Ээ… скажите: когда же — скажите — Николай Аполлонович, так сказать…»
— «Да встают они поздновато-с…»
— «Ну, как поздновато?»
И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы.
Было ровно половина десятого.
В десять часов он, старик, уезжал в Учреждение. Николай Аполлонович, юноша, поднимался с постели — через два часа после. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился.
Николай Аполлонович был сенаторский сын.
Словом, был он главой учреждения…
Аполлон Аполлонович Аблеухов отличался поступками доблести; не одна упала звезда на его золотом расшитую грудь: звезда Станислава и Анны, и даже: даже Белый Орел.
Лента, носимая им, была синяя лента. А недавно из лаковой красной коробочки на обиталище патриотических чувств воссияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак: Александра Невского.
Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица?
Думаю, что вопрос достаточно неуместен: Аблеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей; эти речи, не разрываясь, сверкали и безгромно струили какие-то яды на враждебную партию, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Аблеухова на ответственный пост департамент девятый бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и, где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок (департамент девятый за ввоз не стоял). Речи сенатора облетели все области и губернии, из которых иная в пространственном отношении не уступит Германии.
Аполлон Аполлонович был главой Учреждения: ну, того… как его?
Словом, был главой Учреждения, разумеется, известного вам.
Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было б надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению; но ведь вот — удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России, наперекор большинству департаментов, за исключением одного: но глава того департамента, вот уж скоро два года, замолчал по воле судеб под плитой гробовой.
Моему сенатору только что исполнилось шестьдесят восемь лет; и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье (в минуту торжественную), и — папье-маше (в час досуга); каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости казались синей и громадней.
От себя еще скажем: Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен: на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех «жидовских» журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой…