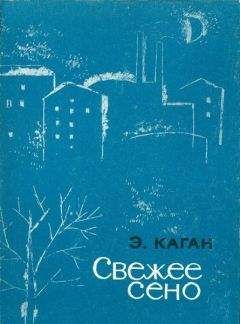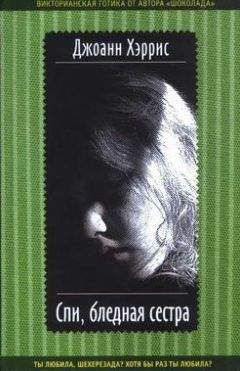Ткач Елена
ЦАРЕВНА ВОЛХОВА
СКАЗ О ЖИЗНИ ЖИВОЙ И МЕРТВОЙ
Засни, моя деточка милая!
В лес дремучий по камушкам Мальчика с пальчика,
Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,
Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда.
Алексей Ремизов
— Мамочка, мама, не спи!
— Угм…
— Мама, Сенечка плачет.
— Сейчас…
Эля ещё минуту постояла возле матери, уснувшей за рабочим столом, уронив голову на стопку машинописных страниц. Потом наклонилась, пошарила под столом, извлекла оттуда недопитую бутылку вина, синий граненый стаканчик и на цыпочках прокралась на кухню. Вылив остатки вина в раковину и ополоснув стаканчик, она умылась, утерла лицо полотенцем и так же на цыпочках вошла в детскую.
Сенечка спал. Ротик его был приоткрыт, он дышал тяжело, запрокинув головку, а лоб, и шея, и грудь — все покрылись мелкими слезками пота. Жар!
— Э-ля… ты тут? — он приоткрыл глаза. — Попить… дай.
— Сейчас, маленький, сейчас. У тебя болит где-нибудь?
— Весь болю.
Сеня скривил губки, как видно, испуганный этим внезапным открытием и захныкал.
— Ма-ма! Ма…
— Сенечка, ты же знаешь — мама работает. Она сейчас занята. Мы ведь и сами справимся, правда? А?! Мы ведь уже большие, мы сами все сделаем. Сейчас я попить тебе принесу. Чайку, да?
— Води-и-ички! Эль, я… — он недоговорил, широко раззявил щербатый свой роток и громко, отчаянно заревел, вцепившись в сестрину руку.
— Ну, чего ты, маленький, чего?
— Я описался.
— Ну, подумаешь! Это разве беда? Сейчас Эленька тебе простынку поменяет. Только не надо плакать. Хорошо?
Малыш, плача, кивнул и отвернулся к стене. Ему было три года. Сеня-Семен уже многое понимал и больше всего боялся огорчить маму.
Эля кинулась к матери и решительно встряхнула её за плечи.
— Мама, у Сенечки жар. Я не знаю что делать!
— А? — мама с трудом подняла отяжелевшую голову и протерла глаза. Что ты… сказала?
— Мама, Сенечка заболел. Врач нужен.
— Ох… сейчас. Сейчас, маленькая.
— Мама, я не маленькая! — Элин голос зазвенел от обиды. — Сколько раз просила…
— Ну, прости, не буду, не буду, Конечно, ты совсем взрослая. Вы растете, а я… Мне нужна сон-трава. Я опять недосмотрела свой сон. Спать хочу!
— Что тебе опять этот сон снился?
— Опять.
— И ты… опять его не разгадала?
— Она только просит разыскать могилу. Смотрит так… как будто жалеет меня. Жалеет, что просит. Но иначе нельзя. Ей нельзя — маме моей. Царствие ей небесное!
— Мам… — Эля осторожно заглянула ей в глаза. — Ты говорила, что она… ну, бабушка… будто хочет тебе ещё что-то сказать. Но тут сон каждый раз обрывается. И сейчас так было?
— Так. Сон-травы хочу.
Мать наклонилась, заглянула под стол, не нашла там того, что искала и вскинула голову.
— Где она?
— Мам, прекрати! Пойдем, я тебя умою. Нет больше сон-травы!
— А куда ты… — женщина не договорила, резко тряхнула головой. Заколка, которая стягивала её волосы на затылке, со стуком отлетела на пол.
— Я её вылила.
Мать вскочила и Эле показалось, что глаза её полыхнули огнем. Это был дикий, недобрый огонь. Его Эля боялась.
Но мама сдержалась, только судорожно сжала тонкие нервные пальцы.
— Что ж… — она опустила голову. — Завари мне чайку. Работу надо закончить.
— Мам, может лучше завтра? Встанешь пораньше и закончишь. А чай у нас кончился. Сейчас вот Сене хотела заварить, гляжу — а баночка-то пустая…
— Угу. Ладно… Тогда кофе. А работать мне надо сейчас — завтра голова будет уж не моя…
— Мамочка, ты забыла. Кофе ещё позавчера кончился.
— А у меня заначка есть! — и мать вдруг как-то озорно улыбнулась, сразу похорошев несказанно, и прищелкнула пальцами.
И Эля в который раз подивилась маминой способности преображаться меняться вдруг, разом. У мамы было много обличий. Иногда лицо её озарялось теплым внутренним светом, а иногда глаза загорались таким опаляющим жгучим огнем, что Эля не всегда могла выдержать этот взгляд. И тогда она говорила себе, что мама её ведунья, вещунья, способная разгадывать прошлое и провидеть будущее…
Анастасия — Тася, как звали Элину маму близкие, догадывалась о том трепетном восхищении, даже восторге, с которым любила её дочь. Впрочем, теперь, когда в их жизни все так внезапно, так мучительно переменилось, им было не до восторгов. Теперь ими правил страх, от которого обе мечтали укрыться хотя бы во сне.
* * *
Началось все с того, что Тасе стал сниться один и тот же сон. Она видела свою бабушку — Элину прабабушку, Тоню. Та сидела на валуне, лежащем в воде у самого берега. Сидела, обхватив руками колени. А за нею открывался широкий и вольный простор реки. Она сидела спокойная. Подзывала внучку рукой. И говорила: «Разыщи могилу деда. Своего настоящего дедушки… Найди его, Тася.» И больше ничего — сон на этом всегда обрывался. Иногда Тася успевала заметить темных и быстрых рыб, скользящих в воде. Но бабушка, кажется, всякий раз хотела добавить что-то еще. Ее взгляд менялся — и такая мука была в нем, такая боль… Но не успевала — внучка её просыпалась, вздрагивая как от удара.
Легко сказать — разыщи! И это после того как сама она — Антонина — не открыла даже дочери, кем был её отец. Даже на смертном одре не сказала! И тайну свою унесла в могилу. У Тасиной мамы Татьяны Гавриловны был приемный отец Гавриил Игнатьевич Мельников. Добрый, заботливый… Лет в пятнадцать та узнала, что он ей не родной — сам как-то нечаянно проговорился. Она замучила мать расспросами: кто же её настоящий отец? Но та, хмурясь, отмалчивалась, хотя человеком была приветливым, добрым, живым… А тут ни слова, ни полслова! Ни-че-го. Тасина мама не понимала в чем дело. Почему ей нельзя знать даже имени? Что за тайна такая?
Но ответом на все её расспросы и мучительные размышления было только материно молчание. Сама Татьяна Гавриловна рассказала об этом Тасе только в больнице, перед концом. Так та узнала о загадке их рода, измучившей мать. Теперь знала о ней и Эля.
И вот, когда спустя год после смерти мамы бабушка стала являться Тасе во сне, весь привычный размеренный ход её жизни был сорван. Она поняла, что тайна бабушки настолько важна для них, — для неё самой, для детей, — что положила целью жизни раскрыть её. Раскрыть, какой бы страшной она ни была!
И взялась за поиски. Обзвонила и обошла всех, кто хоть сколько-то знал её бабушку. Все покачивали головой. Сочувствовали. Недоумевали. Для многих было не понятно: как можно так истово верить снам и пытаться найти ответ на вопрос, который, собственно, теперь не так уж и важен… Анастасия женщина со вполне удавшейся судьбой, у неё работящий и преданный муж, прекрасные дети… Так, при чем тут давно умерший и к тому же незнакомый даже матери человек? При чем тут какой-то сон?
Другие вполне понимали Тасю, но помочь ничем не могли. О прошлом Антонины Петровны им известно было немногое: будто появилась она в Москве в конце сороковых, а до этого жила, кажется, где-то на Волге. Но где именно никто не знал. Да, Тасина бабушка была женщиной очень скрытной!
При этом начало происходить нечто странное. Чем настойчивее Тася пыталась выполнить просьбу покойной бабушки, чем больше нервничала, пускаясь на поиски безвестного деда, тем отчетливей реагировала на это незримая ткань её жизни. Она стала рваться. Что-то сломалось в налаженном механизме судьбы семьи, дотоле вполне благополучной и счастливой. Но о том, что случилось с ними — об этом речь впереди…
* * *
Эля тихонько обняла маму за шею и прижалась холодной щекой к её волосам. И едва не крикнула в голос, вдруг заметив, что эти чудные, густые, темные с медным отливом волосы пестрят сединой.
Тася поднесла к губам прозрачную Элину руку, а потом не удержалась расплакалась. Она плакала глухо, давясь слезами, силясь их побороть, задыхаясь от этого и плача все пуще.
— Ну, мамочка ну, миленькая, пойдем! — уговаривала дочь, неловко гладя ей лицо, и плечи, и волосы. — Надо Сене помочь, а потом мы поплачем с тобой, а сейчас он… температура высокая у него.
Будто стальной обелиск вырос вдруг возле стола, у которого притулились они, — это встала Анастасия, словно впервые услышав, что сыну плохо. Словно только теперь смысл этих слов пробил брешь в заслоне, которым привычно оборонялась от бед с недавних пор. Теперь — такая! — она могла сквозь стену пройти… Только глаза её вдруг погасли.
И уж глубокой ночью, когда Сенечка заснул наконец, напоенный отваром малины, чаем из листьев смородины и аспирином, Тася, виновато потупясь, спросила.
— Эльчик… а сон-травы не осталось?