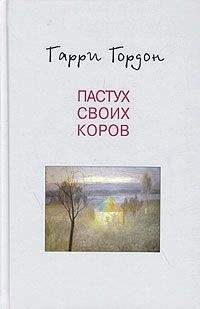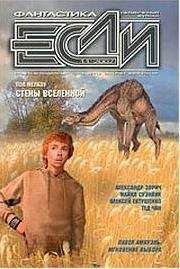Юрий НАГИБИН
Председатель
Часть первая. БРАТЬЯ
...Околица деревушки. Покосившиеся избы под сопревшими соломенными крышами. Пыльный большак огибает деревушку. На бугре под березами пасется бедное стадо: десятка полтора худых коров, несколько телят, овец, коз. Пожилой пастух играет на жалейке что-то тихое, грустное. Рядом с ним лежит на животе подросток лет шестнадцати, босоногий, в ситцевой рубашке без подпояски и портах "ни к селу, ни к городу". Он задумчиво слушает жалкую мелодийку.
Старик, видимо, хочет передать ему свое искусство. Он вынимает ивовую дудочку изо рта, накладывает пальцы на лады, снова подносит ко рту, дует, и неожиданно слабое его дыхание рождает мощный, волнующий звук боевой трубы.
Парень вздрагивает, подымается на локтях. Из-за перелеска к деревне, клубя пыль на дороге, выходит конная красноармейская часть. Парень вскакивает и стремглав сбегает с бугра.
Как завороженный глядит он на бойцов в остроконечных шлемах с красными звездами, на их усталые, обветренные лица, на их худых, поджарых коней, глаза его горят, каждая мышца тонкого мальчишеского тела напряжена
Из деревни выбегают ребятишки и подростки, но в них приметны лишь обычное молодое любопытство и та простая радость, с какой дети глядят на конников.
Один из конников держит на поводу оседланного коня, то ли владелец его пал в бою, то ли, раненный, отстал от части. Он замечает страстное напряжение босого паренька и полушутя-полусерьезно подзывает его взмахом руки.
Тот неуверенно подходит. Конник показывает: садись! Парень глядит на него, все еще не веря. И вдруг одним взмахом вскакивает на спину коня и твердой рукой хватает повод.
- Егорка!.. Егорка! - кричит ему с околицы коренастый, широколицый мальчонка. -Ты куда?..
-На войну! - обернувшись, бросает Егорка.
Конники на рысях удаляются прочь от деревни...
Титр: ГОД 1947-й.
Ночь. В мутном свете месяца чернеют стропила сгоревших изб, голые печи похожи на кладбищенские памятники. Сиротливо горбятся соломенные и тесовые крыши уцелевших изб. Где-то тоскливо воет собака.
К околице, разбрызгивая сапогами весеннюю грязь, приближается человек с рюкзаком за плечами. На околице уцелел лишь покосившийся столб, перед ним ямина, полная воды. Человек протягивает вперед левую руку, хватается за столб и перескакивает через яму.
Бешенный, взахлеб, лай прорезает тишину ночи. Черным клубком на человека наскакивает большой худющий пес. Человек замахивается на пса, тот отскакивает, давясь лаем. И в это время другой пес налетает сзади и хватает человека за шинель. Человек оборачивается и ногой отшвыривает пса. При этом сам едва не падает.
Со всех сторон, внезапно отделяясь от тьмы, будто рождаясь в ней, на человека наскакивают тощими призраками голодные, одичавшие псы.
А один пес, посмелее, кидается прямо ему на грудь. Острые клыки звонко клацнули у самого горла человека.
Человек быстрым, цепким взглядом оглядывает "поле боя". Он делает несколько быстрых шагов и прислоняется к стволу обгорелого тополя - теперь он защищен с тыла. Двигая плечами, он стягивает со спины рюкзак. Тут обнаруживается, что у него нет правой руки, пустой рукав засунут в карман.
Внимательно следя за собаками, порой отбиваясь от них ногами, человек, кружась на каблуке, беспорядочно молотит рюкзаком по собачьим головам. С визгом, с рычанием худые призраки разбегаются.
Человек быстро пересекает улицу.
Собаки устремляются за ним следом, но человек уже достиг крыльца большой, справной избы под железом. Он колотит в дверь рукой.
Никто не отзывается. Человек колотит в дверь сперва носком, потом каблуком сапога. Наконец в сенях послышался слабый шум, под притолокой возникла узкая полоска света.
С лязгом упал железный засов, тренькнул крючок, и ржаво заскрипел в замке ключ. Дверь приоткрывается едва-едва.
- Да пустите же, наконец, - говорит человек. - И так кабыздохи чуть не сожрали.
Дверь распахивается во всю ширь. Защищая рукой фитилек керосиновой лампы без стекла, наружу выглядывает кто-то небритый, с широким плоским лицом, на котором написаны испуг и смятение.
- Егор! - Губы небритого поползли в расслабленной улыбке. - Братуша!..
- От кого запираешься? - с усмешкой спрашивает Егор.
- Братуша! - будто не слыша, повторяет Семен и, пятясь, входит в дом.
Егор кидает рюкзак на лавку, сбрасывает шинель, он слышит, как Семен снова накидывает на дверь многочисленные запоры.
- Донь! - приглушенно зовет Семен, глядя на печь. - Донь, слазь, Егор приехал.
- Не ори, детей разбудишь! - слышится с печи женский голос.
Ситцевая занавеска колыхнулась, показалась полная белая нога. Отыскивая опору, нога заголяется все выше, открылось круглое, полное колено, мясистая ляжка, тут Доня наконец сообразила откинуть подол.
- Здравствуйте, - говорит Доня, протягивая Егору маленькую толстую руку. Она невысока ростом, лицом, белым и румяным, красива.
Семен тем временем повесил лампу на длинный крюк, выкрутил посильнее фитиль. По стенам к потолку пополз трепещущий свет, озарив все углы большой неопрятной избы. Жестяной умывальник, под ним лохань с помоями, почерневшая печь, сальные чугунки; на железной кровати крепко спят двое мальчиков, на лежанке вытянулся долговязый подросток, на сундуке - девочка лет тринадцати, в зыбке, подвешенной к матице, видимо, помещается младенец.
- Сколько их у вас? - спрашивает Трубников, присаживаясь на лавку.
- Шестеро, - отзывается Доня, - в зыбке близнята
- Живем тесно! - балагурским голосом заговорил Семен. - В темноте все друг на друга натыкаемся... А ты обзавелся наконец?
- Провоевал я свое потомство... Мы с женой за все время, может, и года вместе не были.
- А все ж хватит, чтоб пацана родить, - замечает Доня, собирая на стол.
- А я и на дочку был согласен, только жена боялась остаться вдовой с ребенком на руках. Не вышло - и все!
Доня зачем-то отправилась в сени. И вдруг, остро глянув на брата, Егор спрашивает шепотом:
- Все свои? Фрицевых подарков нету?
- Один, - так же шепотом, нисколько не удивленный вопросом, отвечает Семен. - Петька.
Брезгливая жалость на лице Егора Трубникова Неловкое молчание.
- А что мне было - на пулю лезть? - сумрачно оправдывается Семен. Зато дом сохранил, семью сохранил...
- Даже с прибавком! - зло бросает Егор.
С миской соленых огурцов и квашеной капусты входит Доня. Подозрительно поглядела на шептавшихся мужчин, подвинула Егору хлеб и сало.
- Привозной? - спрашивает Егор, беря сыроватый, тяжелый хлеб.
- Факт, не колхозный! - с вызовом говорит Доня.
- А что так?
- Колхоз тут такой: что посеешь - назад не возьмешь.
- Одно прозвание - колхоз, - бормочет Семен, роясь в стенном шкапчике.
- Это почему же?
- Председателя силового район прислал, - весело говорит Доня, - из инвалидов войны, вроде вас, только без ноги. Так он два дела знал: водку дуть да кровя улучшать.
- Это как понять?
Семен ставит на стол бутылку мутного сырца и граненые стопки. Разливает спирт по стопкам. Жена следит за его движениями.
- Дамочек больно уважал. Я, говорит, хороших кровей и должен вам породу улучшить...
- Ну, со свиданьицем, братуша!
- Не пью.
- Брезгуете с братом выпить? - язвит Доня. Помедлив, Трубников холодно объяснил:
- Меня мой комиссар от этого отучил, ненавижу, говорил, храбрость взаймы, воевать надо с душой, а не с винным духом. Я и зарекся.
- Мы не воюем, - говорит Семен, - а храбрость нам и взаймы сгодится. Цокнув стопкой но стопке Дони, он опрокинул водку в рот и, зажмурившись, стал тыкать наугад вилкой в ускользающие огурцы.
Доня тоже выпила в два глотка и, услышав плач, прошла в детский угол поправить сползавшее с дочери одеяло.
- Скажи, Семен, только честно: ты при немцах подличал?
- Ладно тебе, - печально и серьезно говорит Семен. - Меня уже таскали-перетаскали по этому делу. Ни с полицаями, ни с какой сволочью я не водился. А партизанов насчет карательного отряда предупредил. Где надо, о том знают.
- Так чего же ты боишься?
- А всего, - так же серьезно и печально говорит Семен. Налив себе водки, он выпивает одним духом. - Всего я теперь боюсь. И чужих боюсь, и своих боюсь. Начальства всякого боюсь, указов боюсь, а пуще всего - что семью не прокормлю.
- Ну, это тебе вроде не грозит: хлеб-то с сальцем едите. Вернувшись, Доня взяла соленый огурец и стала сосать.
- На соплях наша жизнь, чужой бедой пробавляемся...
- Барахолишь?
- Когда в доме восемь ртов, выбирать не приходится, - спокойно подтверждает Семен.
Гримаса сдерживаемой боли исказила лицо Егора. Левой рукой он схватился за культю правой.
- Ты что?
- Рука, - трудным голосом говорит Егор. - Болит, сволочь, как живая.
- Эка страсть! - равнодушно ужасается Доня. Чтобы заглушить боль, Трубников встает из-за стола, берет свой рюкзак и протягивает Доне.