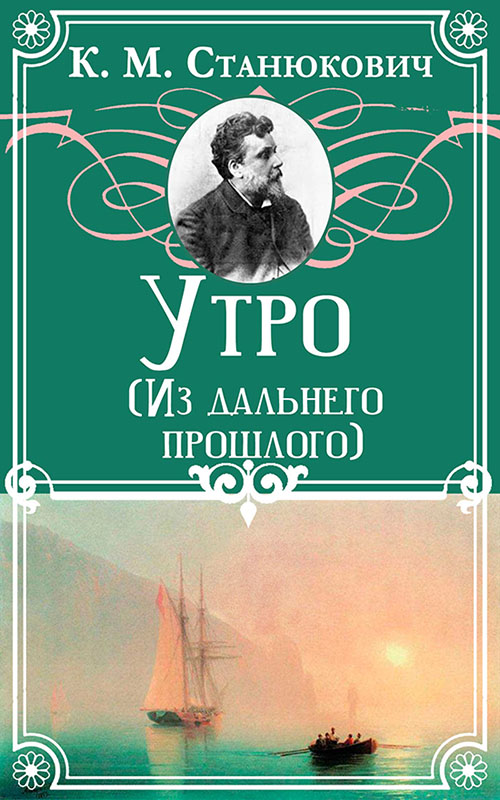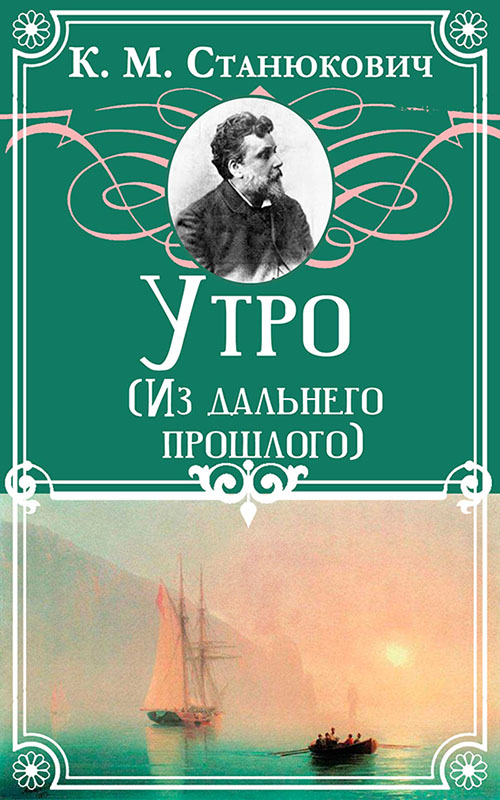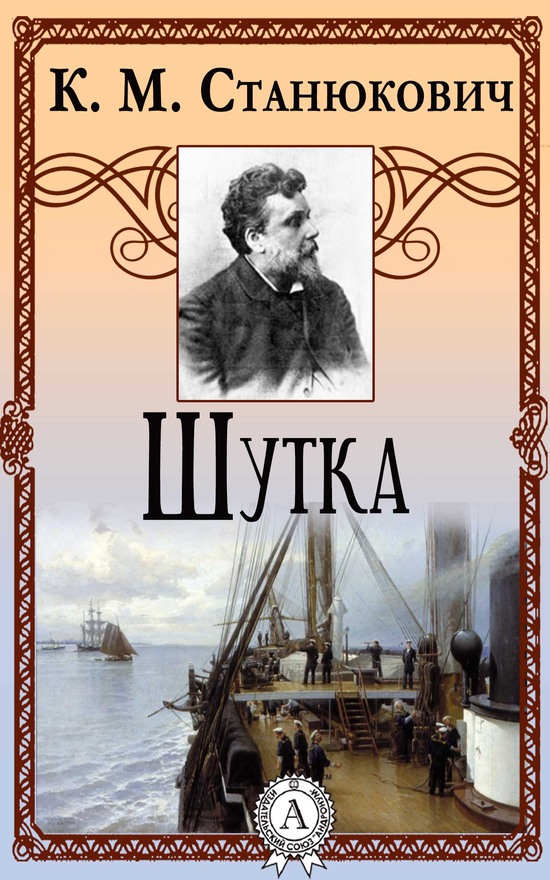Константин Михайлович Станюкович
«ГЛАВНОЕ: НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ» [1]
Раннее солнечное утро, дышавшее острой свежестью горного воздуха, было прелестное.
В роскошных «храмах» знаменитых карлсбадских источников — «Мюльбрунна» и «Шпруделя» — уже играла музыка. Магазины открыты.
Под колоннадой «Мюльбрунна» и на широкой аллее перед ней тихо двигалась толпа разных племен и наречий. Больше всего немцев.
Больные, особенно представители германской расы, не просто отпивали целебную воду из стаканов маленькими глотками или размеренно тянули из стеклянных трубочек: серьезные и слегка торжественные, они, казалось, священнодействовали, свято исполняя свои курортные обязанности, то есть с раннего утра до позднего вечера, когда предписывается ложиться спать, думать только о благополучии своих драгоценных особ.
К семи часам толпа увеличивается. Хвост чающих получить мюльбрунн из ловких рук приютских девочек, быстро наполняющих из мраморного водоема стаканы и так же быстро их подающих, растянулся в два ряда. Порядок, разумеется, образцовый, хотя ни одного городового. Лишь иногда какая-нибудь нетерпеливая дама — и чаще всего соотечественница — втискивается не по праву в середину хвоста. Задний господин, если не лечится от печени, уступает место. Только улыбнется. Да разве ближайшие господа иронически оглядят нарушительницу порядка и тихо промолвят:
— Русская!
Хотя мой «урок» — два стакана — окончен, но до права напиться кофе остается еще полчаса, — я пошел к моему врачу.
В это утро я еще один в зале доктора. Он немедленно вышел, крепко и ласково пожал мне руку и пропустил меня в небольшой кабинет.
После обычных вопросов о здоровье молодой чех основательно и подробно повторил все то, что уже так же основательно и подробно объяснял в первый визит и что не менее добросовестно и подробно прописал в печатном листке под заглавием «Лечебное предписание», выданном мне на три дня вместе с бессрочным листком относительно диеты.
Затем милый доктор, говоривший по-русски, с убедительностью повторил прежний серьезный совет:
— Главное: не волнуйтесь! Покорнейше прошу не волноваться!
— А что делать, доктор, чтобы не волноваться? — спросил я.
— О, я объясню, как это просто, если есть немножко характера. Скажите себе: «не надо волноваться!» И вы будете отгонять всякие неприятные мысли и пригонять приятные. Аккуратно исполняйте лечебное предписание, больше моциона — и после кюра будете совсем здоровы.
Молодой чех говорил мягко, почти нежно и так уверенно, точно объяснял, что дважды два — четыре.
И, с милым видом искренно наивного жреца науки, он ласково и одобряюще улыбался, показывая зубы, сверкающие из-под сочных крупных губ, по-видимому, не сомневавшийся, что исполнить его совет действительно «очень просто». Стоило только «пригонять приятные мысли».
Сам доктор, казалось, был один из тех редких по нынешним временам, уравновешенных, с крепкими нервами людей, которые благополучно не знают волнений. Такое уж было у него спокойное и упорное лицо, свежее и румяное, с большими ясными глазами. Круглая, крепко посаженная черноволосая голова, остриженная «ежиком». Мясистые выбритые щеки и черная бородка. Хорошо сложенная, плотная фигура.
Ни в лице, ни в словах, ни в манере доктора не было влюбленности в свою особу. Он только благоволил к ней.
Вдобавок доктор не сомневался, что тихонько, при легальном терпении, Богемия рано или поздно, но все-таки получит все, чтобы каждый чех был таким же «мальчиком в штанах», как немцы и мадьяры.
Я подумал, что добросовестный чех забыл, что я — русский и притом старый писатель, т. е., по распространенному мнению среди умных столоначальников, такой, с позволения сказать, «беспардонный» человек, которому самим господом богом предназначено писать глупости и, по меньшей мере, волноваться.
Но доктор не забыл, потому что спросил:
— Пишете и здесь?
— Пишу.
— Покорно прошу — не пишите пока. И не читайте газет.
— И русских?
— Лучше и русских. Как говорит наука, и радостные волнения вредны. В Карлсбаде отдыхайте.
После этого доктор вписал в новый листок то, что я знал на память, вручил его мне и, провожая, в третий раз проговорил:
— Главное: не надо волноваться!
Через пять минут я уже сидел за одним из столиков под густыми каштанами на Визе, против ресторана «Elephant».
Кельнерши в черных платьях и белых передниках то и дело бегали через улицу взад и вперед между рестораном и столиками и сновали между ними с подносами.
Одна из фрейлейн заметила меня, любезно кивнула головой, и я знал, что скоро получу кофе.
С первого же дня эта фрейлейн Мари, шустрая и деловито-приветливая, оказывала мне протекцию: оставляла мне столик в первом ряду, чтобы глазеть на публику, возвращавшуюся, с пакетиками купленных булочек в руках, с «водопоя» в излюбленные места, где пьют кофе и чай, подавала мне кофе скорее и сразу понимала или делала вид, что понимает мой невозможный немецкий язык.
Заслужил я благоволения кельнерши десятью крейцерами вместо пяти, которые обыкновенно давала «на чай» кельнершам большая часть публики.
Фрейлейн Мари быстро принесла кофе и предупредительно принесла две газеты, недурно произнося русские названия.
— Novoie Vremie und Moskovskia Viedomosti!
И спросила:
— Всегда подавать русские газеты?
— Пожалуйста. Верно, их не требуют. Русских еще мало?
— Мало. Двое кроме вас ходят и требуют русские газеты.
Нечего говорить, что я забыл предписание доктора и после кофе стал пробегать газеты.
— Извините, «Новое Время» свободно? — раздался около меня голос по-русски.
Я поднял голову и увидел перед собою Привальева.
— Вот не ожидал… Как приятно встретиться со старым знакомым! — проговорил Привальев, пожимая мою руку. — Я здесь от печени! А вы?
— От диабета…
— Позвольте присесть около.
— Пожалуйста…
Привальев попросил кельнершу подать кофе и присел против меня.
Безукоризненно одетый, моложавый, несмотря на свои «под пятьдесят», Привальев был еще красивый мужчина с заседевшей русой бородкой и выхоленными пышными усами. Но в лице он осунулся. Отливавшее желтизной, оно имело серьезное «государственное» выражение, внушительность которого смягчалась застланностью взгляда проницательных и пытливых глаз.
Он заговорил необыкновенно любезно и даже не без некоторой задушевности тона в мягком теноре.
Признаюсь, это показалось мне несколько странным в человеке, имеющем репутацию умницы и черствого чиновника, который не станет расточать нежных слов с бесполезными для него людьми и особенно с литератором, не дающим в газете статей о государственных людях, да еще хорошо знавшим Привальева в его молодости, когда он не раз выражал желание «пострадать за правду».
Любезность его превосходительства удивила меня еще и потому, что до сих пор так-таки и не подтверждались возникавшие в Петербурге слухи о том, что Привальев будет объявлен государственным человеком, и потому он директор департамента не