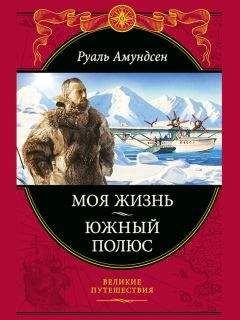- Скажите, - спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью, - скажите, а _сапожным кремом_ вы не интересуетесь?
Семен Иванович взглянул ему в зрачки, они были как точки, вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Семен Иванович проглотил слюну, почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема.
И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно, - можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец мерлушек моргал от нервности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу.
"Сколько раз, бывало, вот так - привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь, привяжется этакий Ибикус, и пошло все кувырком". Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. "Кто бы это мог быть в очках? Не из шайки ли Ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали казну, заметили утечку и - в погоню. Да, но при чем же сапожный крем? Странно. Ох, бежать, бежать, Невзоров..."
Семен Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничьего золота: около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки.
Да как же им и не засесть, подумайте только. Шкурка - сто карбованцев, то есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой работы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля три английских фунта. Если вывезти, на плохой конец, две тысячи шкурок...
У Невзорова захватило дух. "Но как их вывезти из этого проклятого города? Разумеется, безопаснее всего на миноносце, под видом дипломатической вализы. Но, чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств".
Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже, как некто, в надвинутой на лицо шляпе, перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров.
Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торопился отворять. На двери, обшитой снаружи и изнутри толстыми досками для защиты от налетчиков (их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавшихся на юг из северных городов), висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые.
Приказ был таков.
"Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, но и крыс, и _даже тараканов_... Иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что у населения нет осветительных материалов. И все только и знаете, что прибавляете цены на все. Стыдно перед союзниками. Клопов, крыс, прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин".
"Завтра пойду к Талдыкину, с ним, видимо, сговориться будет нетрудно", - подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна Швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул Невзорова, но ничего не сказал, сопя ушел под лестницу.
Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семен Иванович зажег фитилек, плавающий в баночке, в масле. По столу побежал таракан. "Ишь, ты, рысак", - подумал Семен Иванович и щелчком сшиб его на пол.
Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и то, как обругал его рысаком. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на Петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, но его отец, старый Челлини, внезапно закатил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня.
Словом, сшибив таракана, Семен Иванович потел положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящики комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переворочены.
Он подумал: кража! - и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом. Но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что: на полу валялись вчера только купленные две банки с сапожным кремом - желтым и черным, крем из них был вывален на газетный лист.
Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку, пожал плечами раз и другой... "Обыск несомненно... Но в чем дело?" Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семен Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулось и бесшумно скрылось.
На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив Фанкони. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. В пассаже шатались зуавы в красных штанах, скаля африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал в аршин ростом газетчик, обмотанный мамкиными платками: "Генерал д'Ансельм решил исполнить свой долг", - кричал он отчаянно. "Кровавый бой на станции Раздельной, колоссальные потери большевиков". У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась над набухшими почками акации. Дальше - кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки: "Пшел, здесь не разрешено торговать". Но пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот, офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась, зашмыгала слезами.
В общем, все было, как обычно, на дворе пассажа. В окне литературной кофейни "Восточные сладости" виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся, - ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за столом журналистов - Ртищева: красный, расстегнутый и веселый.
- Граф, жив! Иди сюда, арап несчастный, дорогой, - закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу, - садись, знакомься... Это все, брат, журналисты, "Осваг", мозг белой армии... Да как же ты все-таки жив?! А я из Москвы в санитарном поезде, работал за фельдшера. Чудеса! Сдался в плен две недели назад... Решил разбогатеть! Я уж помещение нашел для клуба в мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются - какую мы развернем игру. Господа, - он схватил направо и налево от себя журналистов, - да посмотрите вы на графа конфетка, а не человек. Что пережили вместе - волосы дыбом. Первое знакомство - под октябрьскими пушками, - дом дрожит, а я графа чищу в девятку, выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак... Значит, делаем дела?
- Нет, - сказал Невзоров суховато, - с клубом я связываться не хочу, уволь.
- Вот тебе - лук, чеснок. Ты что же - разбогател?
- Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы.
- Не веришь? Так, так, так, - сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек, и девятый, в дальнем конце стола, спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой.
- Так, так, так, - повторил Ртищев, - а четыре дредноута, а тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?.. Ради кого? - Он размахнул руками, журналисты подались в стороны. - Ради нас, плотвы несчастной, чтобы мы, плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек, французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь... Какое же ты имеешь право, сукин сын, - тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами, - сомневаться, не верить в прочность Одессы. Ты - большевик!..
Журналисты, все восемь человек "Освага", впились глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой.
- Ничего я не большевик, - ответил Невзоров, - если уж на то пошло, я анархист, в смысле идейном... Я - за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов, пить кофе, - пожалуйста. А я уезжаю за границу. К черту, к черту...
Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бородку. Это было то лицо в голубых очках.
Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось:
- Все это шутки, _граф_. Вы среди шутников. Кто же заподозрит вас в чем-либо _серьезном_?