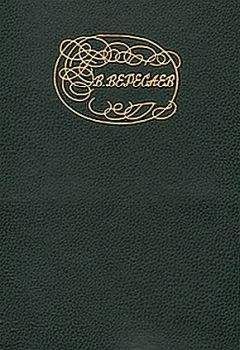Вечно вы ищете духом, нестойкие, глупые люди,
Тягостных мук для себя, и забот, и душевных стеснений!
Грек гомеровский, не отступавший стойким своим духом ни перед какими ужасами жизни, уж, конечно, сумел бы снести на своих плечах и счастье:
Много встречал я напастей, немало трудов перенес я
В море и битвах, пускай же случится со мною и это!
Та "истина", которую открыл царю Мидасу лесной бог Силен, становится теперь для эллина основною истиною жизни.
Величайшее первое благо - совсем
Не рождаться, второе, - родившись,
Умереть поскорей...
скорбно поет хор в софокловом "Эдипе в Колоне". То же самое говорят лирик Феогнид, трагик Еврипид, историк Геродот. Неведомый автор поэмы "Состязание Гомера и Гесиода" эту же мысль кощунственно вкладывает даже в уста Гомера:
Лучшая доля для смертных - на свет никогда не родиться,
Если ж родился, - войти поскорее в ворота Аида.
"У других народов, - правильно замечает Якоб Буркгарт, - проклинание дня рождения представляет собою только редкое слово крайнего отчаяния".
Двое аргивских юношей, Клеобис и Битон, совершили высокий подвиг сыновней любви. Мать их, жрица Геры, обратилась к своей богине с мольбою, чтоб она ниспослала ее сыновьям самый лучший человеческий жребий. Богиня вняла ее мольбе и послала юношам - смерть. "И этим божество показало, говорит Геродот, - что для человека лучше умереть, чем жить". И когда Фивы послали к оракулу посланцев с поручением вымолить для знаменитого Пиндара "то, что в человеческой судьбе самое лучшее для любимого богами", - боги послали Пиндару смерть.
Жизнь глубоко обесценилась. Свет, теплота, радость отлетели от нее. Повсюду кругом человека стояли одни только ужасы, скорби и страдания. И совершенно уже не было в душе способности собственными силами преодолеть страдание и принять жизнь, несмотря на ее ужасы и несправедливости. Теперь божество должно держать ответ перед человеком за зло и неправду мира. Это зло и неправда теперь опровергают для человека божественное существо жизни. Поэт Феогнид говорит:
Милый Зевс! Удивляюсь тебе; всему ты владыка,
Все почитают тебя, сила твоя велика,
Взорам открыты твоим помышленья и души людские,
Высшею властью над всем ты обладаешь, о, царь!
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы
Участь имели одну с тем, кто по правде живет,
Чтобы равны тебе были разумный душой и надменный,
В несправедливых делах жизнь проводящий свою?
Кто же, о кто же из смертных, взирая на все это, сможет
Вечных богов почитать?
Прежнему эллину - мы это уже видели - подобные вопросы были глубоко чужды. Жизнь и божество он умел оправдать из силы собственного духа.
Смертью несло теперь от жизни. И начинает шевелиться в душе вопрос: не есть ли жизнь именно смерть? Не есть ли жизнь что-то чуждое для человека, что-то ему несвойственное, что-то мертвящее его? Еврипид спрашивает:
Кто скажет нам, - не смерть ли жизнь земная,
И смерти час - не жизни ли начало?
И философ Гераклит Ефесский учит: "Мы живем смертью наших душ, а души наши живут нашею смертью".
Жизнь - это что-то призрачное, колеблющееся, обманчивое. Для Гомера умерший человек становится "подобен тени или сну". Теперь иначе. Для Пиндара живой человек есть "сновидение тени". И Софокл говорит:
Я вижу: все мы на земле - не больше,
Как призраки иль трепетные тени.
Жизнь, как таковая, мир сам по себе начинают представляться человеку отягченными какою-то великою виною. Анаксимандр Милетский в своей натур-философской системе учит, что видимый наш мир, выделяясь из Беспредельного, совершает как бы прегрешение. "Из чего произошли все вещи, в это они, погибая, превращаются по требованию правды, ибо им приходится в определенном порядке времени претерпеть за неправду кару и возмездие".
Глубокая пропасть ложится теперь между телом человеческим и душою. Для Эмпедокла тело - только "мясная одежда" души. Божественная душа слишком благородна для этого мира видимости; лишь выйдя из него, она будет вести жизнь полную и истинную. Для Пифагора душа сброшена на землю с божественной высоты и в наказание заключена в темницу тела. Возникает учение о переселении душ, для древнего эллина чуждое и дико-непонятное. Земная жизнь воспринимается как "луг бедствий".
Все подобные настроения ярко концентрируются в так называемом орфизме тайном учении, возникшем или, вероятнее, только вышедшем на поверхность эллинской жизни в VI веке до Р. X., - как раз в то время, когда в Индии возникал буддизм.
Мир лежит глубоко во зле, - учит орфизм. Жизнь есть тяжкое страдание растерзанного божества. Лишь какое-то великое прегрешение могло низвергнуть нашу божественную душу в низменную земную жизнь. Тело - могила души (soma-sema), и душа заключена в тело для искупления какой-то вины. И нелегко достигнуть этого искупления; одной земной жизни мало, чтоб освободить душу от первородного греха, тяготеющего над нею. Долгим и скорбным путем, переселяясь из тела в тело, душа должна очиститься от земной скверны, пока, наконец, не удостоится полного освобождения от оков земной жизни и не сольется с божеством.
Цель жизни человека должна заключаться в очищении. Бывали обстоятельства, когда в очищении нуждался и гомеровский эллин; но там оно имело задачею снять со светлого существа человека случайно загрязнившее его пятно преступления. Здесь же совсем другое: нужно было очищаться от жизни, от жизни самой по себе. Дело не в каком-нибудь определенном прегрешении, человек грешен уже с самого рождения, он изначально нечист и греховен. В строгих трудах, посте и лишениях "орфической жизни" может он искупить эту свою греховность. Совершенно чуждое для эллина начало, аскетизм, кладется в основу благочестивой жизни. Суть этого благочестия - в обращении к божеству, в отречении от земной жизни, от всего, что привязывает к ней. "Душе, от бога пришедшей и стремящейся назад к богу, нечего делать на земле (и именно поэтому не к чему служить морали); она должна очиститься от всего земного" (Э. Роде).
Не следует думать, что орфизм был только случайною, маленькою заводью у края широкого потока эллинской духовной жизни. Правда, в эпоху расцвета эллинской культуры он не имел широкого распространения в народе, - это случилось позже, в века упадка и разложения, перед появлением христианства. Но с орфизмом, - как и с пифагорейством, во многом родственным с орфизмом, крепкими нитями были связаны лучшие духовные силы послегомеровской Греции, ее величайшие мыслители и художники.
Однако уже и в широкой публике тогдашних зрителей трагедии не вызывали смеха и недоумения образы, подобные еврипидову Ипполиту. Целомудренный юноша-постник, "ученик Орфея", Ипполит глубоко презирает богиню любви Афродиту. Прежнему эллину было понятно целомудрие как противоположность разврату, и он чтил целомудренную Пенелопу, жену Одиссея. Но целомудрие, отрицающее саму любовь, было для него чем-то совершенно нелепым. Для чего же существуют мужчина и женщина, для чего в них заложено стремление друг к другу, как не для того, чтобы
вместе на ложе всходить и сближаться,
Как для людей установлен закон, - для мужчин и для женщин?
(Ил. IX. 133-134).
Любовь сама по себе была для древнего эллина глубоко священна, потому-то и существовала богиня любви. И сама целомудренная девственница Артемида, которой якобы служит Ипполит, была, между прочим, покровительницей родящей женщины.
VI
БОГ СТРАДАНИЯ И ИЗБЫТКА СИЛ
Радостная, "синяя" эллинская осень. Виноград собран и выжат. Толпы весело возбужденных мужиков с песнями движутся к жертвеннику бога. Впереди несут амфору вина, увитую зеленью, за нею тащат жертвенного козла, несут корзину с фигами. Шествие замыкает фаллос - изображение напряженного мужского члена, символ изобилия и плодородия. Плоды и вино возлагают на алтарь, закалывают козла, и начинается веселое празднество. Свистят флейты, пищат свирели, повсюду звучат игривые песенки; заводят хороводы, парни пляшут двусмысленные пляски с непристойными телодвижениями. Подвыпившие мужики сидят на телегах, задирают острыми шуточками прохожих, зло высмеивают их, прохожие отвечают тем же. В воздухе стоит грубый, здоровый хохот, топот и уханья пляски, визги девушек. Появляются ряженые в козлиных шкурах и в масках, либо их лица вымазаны винными дрожжами. Наступает ночь, и еще жарче разгорается веселье, и творится под покровом ночи много такого, чего не должен видеть день. Широким вихрем носится пьяная, самозабвенная радость, втягивает в себя души и высоко поднимает их над обыденною жизнью, над трудами и заботами скучных будней.
Это - осенний праздник виноградного бога, многорадостного Вакха-Диониса, "радости смертных"...
Темная, бурная декабрьская ночь - самая долгая ночь в году. По вершинам и отрогам гор мелькают неверные светы факелов, слышны пронзительные, ужас наводящие женские вопли, безумный смех и безумные стоны. Исступленно звучат призывные клики: "Эвой! Эвой! Бромий!" Женщины пляшут и кружатся, волосы их бьются по ветру, одежды растерзаны. Как серны, переносятся они через пропасти и скачут с обрывов, не разбиваясь; бьются в конвульсиях; тела их принимают самые невероятные позы, как будто все законы тяжести вдруг исчезли; такие позы мы теперь можем видеть в атласах, изображающих больных из клиники Шарко. Женщины хватают жертвенных животных, голыми руками разрывают их живьем на части и поедают сырое, дымящееся мясо. Если кто посторонний случайно попадется им на пути - горе ему и горе! С грозно-восторженным воем бросятся на него женщины, схватят его за голову, за руки, за ноги и разорвут на части, и даже не услышат ни воплей его, ни стонов. И как ни будь силен человек, защититься он не сможет. Слабая женщина в таком состоянии необорима