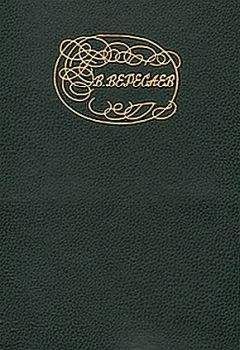Нельзя лучше охарактеризовать всю сущность гомерово-аполлоновского отношения к жизни, чем это сделал Гёте в своей статье о Винкельмане.
"Чувство и созерцание не были еще в то время раздроблены на куски, в здоровой человеческой силе еще не произошло едва исцелимого разобщения. Натуры эти были в высшей степени способны не только к наслаждению счастьем, но и к перенесению несчастия. Как здоровое волокно сопротивляется вредному влиянию и при каждом болезненном поражении поспешно восстанавливается, так способен был и здоровый дух этих людей быстро и легко восстанавливаться по отношению ко всем внутренним и внешним бедствиям. Таков был античный дух - в деятельности, наслаждении и лишении, в радости и горе, в обладании и потере, в возвышении и уничижении всегда довольный прекрасной землею, на которой царит над нами такая переменчивая судьба".
Однако Гёте относил эту характеристику не специально к Аполлону, не к определенному, весьма ограниченному периоду эллинской жизни. Он относил ее к античному духу вообще. В этом он разделял всеобщее для XVIII века заблуждение, созданное, между прочим, как раз Винкельманом.
В действительности было совсем не так.
IV
ВОКРУГ ЭЛЛАДЫ
В то время как над Элладою безраздельно царил светлый, радостный и кипучий Аполлон, в дикой и суровой Фракии, к северу от Эллады, жили племена, поклонявшиеся странному, неведомому эллинам богу.
На жизнь эти люди смотрели как на тяжкое несчастье. Рождение ребенка встречалось у них плачем. "Близкие, - рассказывает Геродот, - сидели вокруг новорожденного и оплакивали его, и скорбели о несчастиях, которые ждут его в жизни, и перечисляли все человеческие страдания. Умерших же они погребали с радостью и ликованием и говорили: теперь он избавился от всех зол и живет в блаженстве". Жены умершего ссорились друг с другом за честь быть зарезанною на могиле мужа. Люди с радостным одушевлением шли в бой навстречу смерти, потому что смерть казалась им прекрасною.
А еще выдавались фракийцы своим пьянством. Даже женщины пили у них неразбавленное вино. Формы дикого и тяжелого разгула еще Гораций называет "свойственными фракийцам". Опьянялись фракийцы также дымом бросаемых в огонь зерен - очевидно, конопли (гашиш).
Так жили эти люди в мрачном отъединении от жизни, от ее света и радости. Но наступил час - и из другого мира, из царства духов, приходил к ним их бог Сабазий. И тогда все преображалось.
Темною ночью, при мелькающем свете факелов, двигались по горам толпы людей, встречавших бога; особенно всегда бывало много женщин. Заливались флейты, оглушительно гремели литавры и медные тазы. Люди с пронзительными криками бешено плясали и кружились под музыку. На головах их были рога, в руках извивались живые змеи; мелькали в воздухе кинжалы и обвитые плющом копья. Жуткая тьма ночи, дикая музыка, бешеная пляска и кружение, - может быть, еще вино и гашиш, - зажигали душу пьяным безумием. В экстазе человек "исступал из себя", душа втягивалась в какой-то огромный вихрь всеединого, безумного блаженства, далеко уносивший его от обыденной жизни. Собственное тело человека становилось для него чуждым, не своим. Он жег себя огнем, колол кинжалами - и боли не было; а если была боль, то она давала только радость. И далеко была внизу вся обычная жизнь с ее страхами, нуждою и привязанностями. Мать в таком состоянии могла растерзать собственного сына и не было жалости, а была та же радость.
И всё гремели литавры, неистово кружились люди, священное безумие росло. Приводили жертву; в более ранние времена это был человек - выбранный по жребию или военнопленный; позднее - бык. Люди бросались на жертву, живьем разрывали ее на части, пили льющуюся кровь, пожирали кровавое мясо. И творилось тут великое чудо и великая тайна: растерзанная жертва - это был сам бог Сабазий. Но и те, которые разрывали его на части, сами участники радений, - они теперь уже не были людьми: через плоть и кровь жертвы они приобщались к великому, страждущему богу Сабазию, становились его частью, становились богами, "Сабазиями" или "Сабами".
Эрвин Роде так рисует душевное состояние, переживавшееся участниками радений. "Человек чувствовал сверхчеловеческую жизненную силу, которая царила вокруг него, над ним, и распространялась на собственную его личную жизнь. В другое время, заключенный в отдельное свое существование, он мог только противопоставлять себя этой силе, робко поклоняясь ей; но в эти часы высшего подъема пламенное переполнение духа разбивало все грани и вело к целостному единению с этою силою; здесь собственная жизнь человека терялась на мгновение в жизни божества".
Греческие наблюдатели, как характернейшую особенность фракийцев, отмечают их веру в бессмертие души. Роде тонко указывает на тесную связь, в которой эта вера находится с экстатическим характером религий, подобных религий фракийцев. В опьянении экстаза человек сам "испытал", как душа, освобожденная от тела, способна принимать участие в блаженствах и ужасах божественного бытия, - и именно она одна, душа, а не весь человек, состоящий из души и тела. В мгновения экстаза душа высоко поднималась над земною жизнью и жалким своим телом. Как блеском молнии, она озарялась ощущением своей божественности и вечности. И естественно было убеждение, что, когда душа вырвется из тесноты земной жизни, когда сбросит с себя оковы тела, то длительною станет для нее та жизнь, которую она мгновениями испытывала в состоянии экстаза.
Та жажда бессмертия, которою горел фракиец, носила характер глубоко отличный от жажды бессмертия эллинской. Эллин хотел жить вечно, потому что жить - хорошо. Фракиец хотел жить вечно, потому что... жить - скверно. Какое, казалось бы, противоречие: жизнь темна, жизнь ужасна и невыносима, как же можно желать ее удлинения в вечность? Дело тут в совмещении двух противоречивых начал - страстной жажды жить и неспособности жить. Мы это самое видели у Достоевского. Как примирить противоположные начала? У человека нет сил жить, что-то мешает жизни. Что же именно? Очевидно, мешает тело, мешает этот темный, разъединенный мир. Значит, надо избавиться от них, надо сбросить их с себя, и тогда начнется настоящая жизнь. Об ней человек знает по тем мгновениям экстаза, когда душа его высоко поднималась над телом и жизнью. Отрицание жизни, боязнь ее - вот источник такой жажды бессмертия.
Жизнь была для фракийца чем-то противоположным и враждебным божеству, тело - душе. Живая жизнь есть страдание и унижение божества, есть его растерзание; тело - темница, в которой томится душа, отторгнутая от своей родной, божественной стихии, тяжко страдающая в своем обособлении. Жизнь божества - вне нашей низменной жизни, жизнь души - вне нашего темного тела. Конечно, не в таких мудреных, отвлеченных выражениях изложил бы свое религиозное жизнеотношение дикий, пьяный и задавленный жизнью фракиец, - он даже не понял бы их. Но именно таково было его основное чувствование мира, и в бессознательном этом чувствовании было больше глубины и силы, чем в холодных философствованиях какого-нибудь благополучного современного мистика.
Именно с севера, из Фракии, - по крайней мере, по мнению многих исследователей, - вступил в Элладу этот новый, дотоле неведомый эллинам бог. Но царствовал он не в одной Фракии. И к югу, и к востоку от Эллады, среди богов мрачных и грозных, жил этот же таинственный, вечно страдающий бог. У вавилонян имя ему было Таммуз, у лидийцев - Аттис, у финикиян - Адонис.
Разные у него были названия, разные облики. Но страдальческая судьба везде была одна. В определенное время темные, чудовищные силы растерзывали на части прекрасного бога, он умирал в муках и исчезал в подземном мире. Богиня-мать или богиня-возлюбленная блуждала по земле, напрасно разыскивая бога, и оплакивала его в безмерной скорби. И все люди скорбели тою же великою скорбью, - скорбью о мире, лишившемся бога, об ужасе, мраке обезбоженной жизни. На что она была теперь нужна? Люди приносили в жертву свои волосы (по восточным представлениям, в волосах скрыта жизненная сила человека). Мужчины оскопляли себя, девушки отдавали свое целомудрие презираемым чужестранцам. Постами и страшными муками люди истязали свое тело, обреченное на смерть и тление. В глиняные сосуды сеялся особый подбор семян; растения быстро вырастали и так же быстро увядали, лишь на короткое время порадовав взоры зеленью своею и цветами. Эти "садики Адониса" - вот была человеческая жизнь, - непрочная, скоропреходящая, обреченная на быстрое увядание.
Но наступал таинственный, священный, великий час - и умерший бог воскресал. В диких оргиях, в экстатических плясках люди приветствовали возвращение жизнедателя-бога, возрождение поникшей жизни, благовествование о великом единстве всего сущего. "Жив Господь-Адонаи, Господь воскрес! Будьте утешены вы, благочестивые! Бог избавлен от смерти!"
Тот же бог, облеченный в несколько иные формы, жил и в далеком Египте. Злой бог Сет-Тифон растерзал на части кроткого Озириса, и душа мира Изида, плача, блуждала по нильским болотам, собирая рассеченные части бога-страдальца.