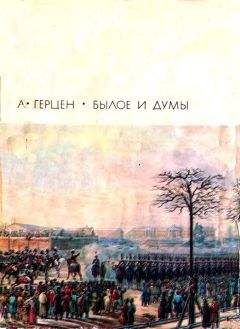Пока тройное ярмо немца, Бурбона и папы давило шею Италии - эти энергические монахи-воины ордена св. Маццини находили везде сочувствие. Принчипессы и студенты, ювелиры и доктора, актеры и попы, художники и адвокаты, все образованное в мещанстве, все поднявшее голову между работниками, офицеры и солдаты, все тайно, явно было с ними, работало для них. Республики хотели немногие, - независимости и единства - все. Независимости они добились, единство на французский манер им опротивело, республики они не хотят. Современный порядок дел во многом итальянцам по плечу, им туда же хочется представлять "сильную и величественную" фигуру в сонме европейских государств, и, найдя эту bella e grande figura1 в Викторе-Эммануиле, они держатся за него2.
Представительная система в ее континентальном развитии действительно всего лучше идет, когда нет ничего ясного в голове или ничего возможного на деле. Это великое покамест, которое перетирает углы и крайности обеих сторон в муку и выигрывает время. Этим жерновом часть Европы прошла, другая пройдет, и мы (443) грешные в том числе. Чего Египет - и тот въехал на верблюдах в представительную мельницу, подгоняемый арапником.
Я не виню ни большинство, плохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, так долго оставленные на воспитании клерикалов, я не виню даже правительство; да и как" же его винить за ограниченность, за неуменье, за недостаток порыва, поэзии, такта. Оно родилось в Кариньянском дворце среди ржавых готических мечей, пудреных старинных париков и накрахмаленного этикета маленьких дворов с огромными притязаниями.
Любви оно не вселило к себе, совсем напротив, но от этого оно не слабже стало. Я был удивлен в 1863 общей нелюбовью в Неаполе к правительству. В 1867 в Венеции я видел без малейшего удивления, что через три месяца после освобождения его терпеть не могли. Но при этом я еще яснее увидел, что бояться ему нечего, если оно само не наделает ряда колоссальных глупостей, хотя и они ему сходят с рук необыкновенно легко.
Пример того и другого перед глазами, я его приведу в нескольких строках.
К разным каламбурам, которыми правительства иногда удостоивают отводить народам глаза, вроде "Prisonniers de la paix"3 Людвига-Филиппа, "Империя мир" Людвига-Наполеона, Рикасоли прибавил свой - и закон, которым закреплял большую часть достояния духовенству, назвал законом "о свободе (или независимости) церкви в свободном государстве". Все недоросли либерализма, все люди, не идущие дальше заглавия, обрадовались. Министерство, скрывая улыбку, торжествовало победу; сделка была явным образом выгодна духовенству. Явился бельгийский грешник и мытарь, за которого спрятались отцы-иезуиты. Он привез с собой груды золота, цвет которого в Италии давно не видали, и предлагал большую сумму правительству, с тем чтоб обеспечить духовенству законное владение имениями, выпытанными на духу, набранными у умирающих преступников и всяких нищих духом.
Правительство видело одно - деньги; дураки - другое: американскую свободу церкви в свободном государ(414)стве. Теперь же в моде прикидывать европейские учреждения на американский ярд. Герцог Персиньи находит неумеренное сходство между второй империей и первой республикой нашего времени.
Однако как ни хитрили Рикасоли и Шиаола, камера, составленная очень пестро и посредственно, стала понимать, что игра была подтасована и подтасована без нее. Банкир прикидывался импрезарием и старался скупать итальянские голоса, но на этот раз, дело было в феврале, камера охрипла. В Неаполе подняли ропот, в Венеции созвали сходку в театр Малибран для протеста, Рикасоли велел запереть театр и поставить часовых. Без сомнения, из всех промахов, которые можно было сделать, нельзя было ничего придумать глупее.. Венеция, только что освобожденная, хотела воспользоваться оппозиционным правом и была полицейски подрезана. Собираться для празднования короля и подносить букеты al gran comandatore1 Ламармора ничего не значит. Если б венецианцы хотели делать сходки для празднования австрийских архидюков, им, конечно, позволили бы. Опасности сходка в театре Малибран не представляла никакой.
Камера встрепенулась и спросила отчета. Рикасоли отвечал дерзко, высокомерно, как подобает последнему представителю Рауля Синей Бороды, средневековому графу и феодалу. Камера, "уверенная, что министерство не желает уменьшить право сходок", хотела перейти к очереди. Рауль, взбешенный уже тем, что его закон "о свободе церкви", в котором он не сомневался, стал проваливаться в комитетах, объявил, что он не может принять ordre du jour motive2. Обиженная камера вотировала против него. За такую продерзость он на другой день отсрочил камеру, на третий - распустил, на четвертый - думал еще о какой-то крутой мере, но, говорят, Чальдини сказал королю, что на войско рассчитывать трудно.
Бывали примеры, что правительства, зарапортовавшись, приискивали дельный предлог, чтоб сделать гадость или скрыть ее, а эти господа сыскали самый нелепый предлог, чтоб засвидетельствовать свое поражение. (445)
Если правительство будет дальше и резче идти этим путем, может оно и сломит себе шею; рассчитывать, предвидеть можно только то, что сколько-нибудь покорено разуму; всемогущество безумия не имеет границ, хотя и имеет почти всегда возле какого-нибудь Чальдини, который в опасную минуту выльет шайку холодной воды на голову.
А если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, она его не вынесет безнаказанно. Такого призрачного мира лжи и пустых слов, фраз без содержания трудно переработать народу менее бывалому, чем французы. У Франции все не в самом деле, но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики, впавшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладает с этими тенями китайского фонаря, с лунной независимостью, освещаемой в три четверти тюльерийским солнцем, с церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной бабушкой в ожидании ее скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма и риторика камер не даст итальянцу здоровья. Его забьет, сведет с ума эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего не готовится. Что же делать? Где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Италии, вслед за тем провозгласить ее распадение на самобытные, самозаконные части, едва связанные между собой. В десяти живых узлах может больше выработаться, если есть чему выработываться; оно же и совершенно в духе Италии.
...Середь этих рассуждений мне попалась брошюра Кине "Франция и Германия", я ей ужасно обрадовался, не то чтоб я особенно зависел от суждений знаменитого историка-мыслителя, которого лично очень уважаю, но я обрадовался не за себя.
В старые годы в Петербурге один приятель, известный своим юмором, найдя у меня на столе книгу берлинского Мишле "о бессмертии духа", оставил мне записочку следующего содержания: "Любезный друг, когда ты прочтешь эту книгу, потрудись сообщить мне вкратце, есть бессмертие души или нет. Мне все равно, но желал бы знать для успокоения родственников". Вот для родственников-то и я рад тому, что встретился с Кине. Наши друзья до сих пор, несмотря на заносчи(446)вую позу, которую многие из них приняли относительно европейских авторитетов, их больше слушают, чем своего брата. Оттого-то я и старался, когда мог, ставить свою мысль под покровительство европейской нянюшки. Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей Франции не Катилина, а смерть, держась за полу Стюарта Миля, я твердил об английском китаизме и очень доволен, что могу взять за руку Кине и сказать: "Вот и почтенный друг мой Кине говорит в 1867 о латинской Европе то, что я говорил обо всей в 1847 и во все последующие".
Кине с ужасом и грустью видет понижение Франции, размягчение ее мозга, ее омельчание. Причины он не понимает, ищет ее в отклонении Франции от начал 1789 года, в потере политической свободы, и потому в его словах из-за печали сквозит скрытая надежда на выздоровление возвращением к серьезному парламентскому режиму, к великим принципам революции.
Кине не замечает, что великие начала, о которых он говорит, и вообще политические идеи латинского мира потеряли свое значение, их пружина доиграла и чуть ли не лопнула. Les principes des 17891 не были фразой, но теперь стали фразой, как литургия и слова молитвы. Заслуга их огромна: ими, через них Франция совершила свою революцию, она приподняла завесу будущего и, испуганная, отпрянула.
Явилась дилемма.
Или свободные учреждения снова коснутся заветной завесы, или правительственная опека, внешний порядок и внутреннее рабство.
Если б в европейской народной жизни была одна цель, одно стремление, та или другая сторона взяла бы давно верх. Но так, как сложилась западная история, она привела к вечной борьбе. В основном бытовом факте двойного образования лежит органическое препятствие последовательному развитию. Жить в две цивилизации, в два пласта, в два света, в два возраста, жить не целым организмом, а одной частью его, употреблять на топливо и корм другую и повторять о свободе и равенстве становится труднее и труднее. (447)