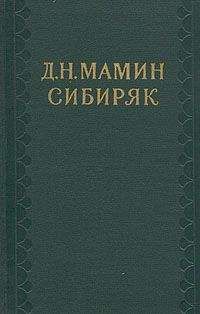Пока Пепко предавался своему унылому самоедству, судьба уже приготовила корректив.
Произошло это совершенно неожиданно, как происходят только серьезные вещи в жизни.
Дело происходило на святках. Ученые общества прекратили свою деятельность, и мы могли воспользоваться по усмотрению своей голодной свободой. Семейных знакомств у нас не было, да и не могло быть благодаря отсутствию приличных костюмов. Все это было очень грустно, особенно в такие семейные праздники, как святки. Все веселились, у всех был свой семейный угол, и мы особенно ярко чувствовали свое унылое одиночество. Пепко с каким-то ожесточением решительно ничего не делал, валялся целые дни на кровати и зудил на гитаре до тошноты, развивая в себе и во мне эстетический вкус. Иногда, достигнув конечного предела одурения, он вскакивал, кого-то ругал в пространство, убегал из дому и через десять минут возвращался с сильным запахом водки.
- А, черт... - ворчал он, хватаясь опять за гитару.
Произошла очень печальная история, которая случается при совместном сожительстве: мы надоели друг другу... Все разговоры были переговорены, интересы исчерпаны, откровения сделаны - оставалось только скучать. Все привычки, недостатки и достоинства были известны взаимно, как платье, физиономии, жесты, интонации голоса и т.д. Незаметно мы старались не видеть друг друга, уходя из дому на целые дни. Это было самое лучшее, что можно было сделать в нашем положении. Именно в один из таких тяжелых дней, когда я скрылся из дому к знакомому студенту-технологу, и произошло то, что перевернуло жизнь Пепки наирадикальнейшим образом.
Как отчетливо я помню этот проклятый зимний день, гнилой, серый, тоскливый! Вместо снега на мостовой лежала какая-то жидкая каша. Я нарочно засиделся у своего знакомого подольше, чтобы вернуться домой, когда Пепко уже спит, - от скуки он в праздники заваливался спать с десяти часов. Я возвращался в самом скверном настроении, проклиная погоду, праздники, собственную молодость. На мостках через Неву меня продуло самым беспощадным образом, точно самые стихии ополчились на беззащитного молодого человека. Наконец, вот и наш дом, наш флигелек. На звонок вышла Федосья и встретила меня загадочной улыбкой, - она умела улыбаться самым глупым образом.
- Что такое случилось, Федосья Ниловна?
Вместо ответа Федосья только фыркнула и мотнула головой по направлению нашей комнаты, откуда раздавались звуки польки-трамблян. Значит, еще Пепко не спал... Отворяю дверь и от изумления превращаюсь в знак вопроса. Представьте себе совершенно невероятную картину: на моей кушетке сидел Пепко с гитарой, приняв какую-то особую позу жуирующего молодого человека, а перед ним... Нет, это нужно писать другим пером и другими чернилами... В нашей комнате кружились две пары самых очаровательных масок: два "турка", цыганка и "Ночь". "Турки" были своего домашнего приготовления, и не нужно было особенной проницательности, чтобы угадать в них переодетых девушек. Да, это были настоящие маски, тот милый маскарад, который не требовал объяснений. И все-таки я решительно ничего не понимал... На столе, где лежали мои рукописи, стояли три пустых бутылки из-под пива, две тарелки с объедками колбасы и сыра, два веера и перчатки не первой молодости.
- Рекомендую: мой друг, - рекомендовал меня Пепко. - Отличный парень, а главное - замечательный талант.
- В каком смысле? - осведомилась Ночь, подавая мне холодную, длинную и худую руку.
- Во всяком, милая Ночь...
Маски сбились в одну кучку и о чем-то шушукались. Очевидно, мое появление нарушило трогательный семейный праздник. Впрочем, скоро все уладилось само собой. Храбрее всех оказались "турки", которые первыми сняли маски, а их примеру последовала цыганка. В результате этого разоблачения оказались три молодых, довольно миловидных рожицы, улыбавшихся и хихикавших самым задорным образом. Упорнее всех оказалась Ночь, которая ни за что не хотела снимать маску. Пепко пустил в ход какой-то дипломатический подвох, чтобы "обнаружить прелестную незнакомку", которая оказалась девушкой средних лет, с какими-то испуганными темными глазами.
- Ну, вот и отлично! - одобрял Пепко, принимаясь за свою гитару.
- Что это значит? - спросил я, продолжая не понимать.
- Что значит? В нашем репертуаре это будет называться: месть проклятому черкесу... Это те самые милые особы, которые так часто нарушали наш проспект жизни своим шепотом, смехом и поцелуями. Сегодня они вздумали сделать сюрприз своему черкесу и заявились все вместе. Его не оказалось дома, и я пригласил их сюда! Теперь понял? Желал бы я видеть его рожу, когда он вернется домой...
У нас открылся настоящий бал. Появилось новое пиво, а с ним разлилось и новое веселье. Наши маски оказались очень милыми и веселыми созданиями, а Пепко проявил необыкновенную галантность - нечто среднее между турецким пашой и французским маркизом конца грешного восемнадцатого века.
- Гризетки из Латинского квартала, - резюмировал Пепко свои впечатления и как-то особенно глупо захохотал; я его видел в женском обществе в первый раз.
Говоря откровенно, девушки были очень недурны и дурачились так мило, точно разыгравшиеся котята. Мы танцевали кадриль, польки, вальсы - вообще развеселились. Потом начались святочные игры, пение, все те маленькие глупости, которые проделываются молодежью с таким усердием. Пепко проявлял все свои таланты, и наши дамы хохотали над ним до слез. Он сам вошел в свою роль и тоже хохотал.
- Позвольте, однако, mesdames, как вас зовут? - спохватился Пепко немножко поздно.
- Угадайте...
Пепко посмотрел на них и по какому-то наитию проговорил с полной уверенностью:
- Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья-премудрость...
По странной случайности оказалось, что это было именно так, и Пепко, увлекшись своей ролью прорицателя, подошел к Ночи, взял ее за руку и проговорил:
- А ты - Любовь, то есть любовь и в частности и вообще.
IX
- Что такое женщина? - спрашивал Пепко на другой день после нашего импровизированного бала. - За что мы любим эту женщину? Почему, наконец, наша Федосья тоже женщина и тоже, на этом только основании, может вызвать любовную эмоцию?.. Тут, брат, дело поглубже одной физики...
Затем Пепко сделал рукой свой единственный жест, сладко зажмурил глаза и кончил тем, что бросился на свою кровать. Это было непоследовательно, как и дальнейшие внешние проявления собственной Пепкиной эмоции. Он лежал на кровати ничком и болтал ногами; он что-то бормотал, хихикал и прятал лицо в подушку; он проявлял вообще "резвость дитяти".
- Что с тобой, Пепко?
- Со мной? Что со мной?.. Я влюблен в Федосью... Ххе!.. По-моему, она бальзаковская женщина с очень колоритным темпераментом, и я посвящу ей стихи.
Пепко вскочил со своего ложа, остановился посреди комнаты и совершенно неожиданно захохотал, сделав глупое лицо.
- Что такое женщина?.. О, ты не знаешь, что такое женщина!
По всем признакам Пепко мучился желанием рассказать мне что-то очень пикантное и вместе с тем не решался. Я мог сделать довольно основательное предположение по адресу вчерашних масок, - мы их провожали вместе, а потом разлучились; на мою долю досталось провожать двух сестер, Веру и Надежду, а Пепко провожал Ночь и мать, премудрость Софью. Домой вернулся он очень поздно, когда я уже спал, и утром не желал поделиться своими впечатлениями. Настоящий разговор происходил уже после обеда, когда на Пепку напала томящая жажда соткровенничать.
- Если не ошибаюсь, тебя угнетает какая-то тайна? - заметил я, подавая реплику.
- О, ты проник на самое дно моей души, мой друг... Да, величайшая тайна, больше - тайна женщины. А впрочем, подозрение да не коснется жены цезаря!
- Где цезарь, Пепко?
- Цезарь - это я, то есть цезарь пока еще в возможности, in spe. Но я уже на пути к этому высокому сану... Одним словом, я вчера лобзнул Ночь и Ночь лобзнула меня обратно. Привет тебе, счастливый миг... В нашем лице человечество проявило первую попытку сделать продолжение издания. Ах, какая девушка, какая девушка!..
- По-моему, она очень некрасива...
- А глаза?.. И мир, и любовь, и блаженство... В них для меня повернулась вся наша грешная планетишка, в них отразилась вся небесная сфера, в них мелькнула тень божества... С ней, как говорит Гейне, шла весна, песни, цветы, молодость.
Освободившись от своей тайны, Пепко, кажется, почувствовал некоторое угрызение совести, вернее сказать, ему сделалось жаль меня, как человека, который оставался в самом прозаическом настроении. Чтобы несколько стушевать свою бессовестную радость, Пепко проговорил каким-то фальшивым тоном, каким говорят про "дорогих покойников":
- А эта белокуренькая Надежда ничего... Этакой пухленький чертенок. Я заметил, как она посматривала на тебя. И ты в свою очередь...
- Нельзя ли меня оставить в покое.
- Гм, твое дело... Если не ошибаюсь, Вера и Надежда - сестры, и, если не ошибаюсь, у них есть мамаша, то есть они живут при мамаше?