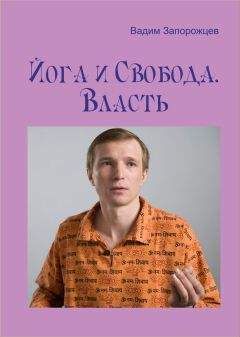Обстоятельства, о которых речь ниже, даже гораздо ниже, позволили мне овладеть (так в оригинале) этого письма, оригинал которого мной утрачен. Полагаю однако, что копия ему соответствует полностью.
{41} "Как вам вероятно поведала моя падчерица, - прочел я, - я был, в течение ряда лет, владельцем туристического агентства. Хотя мое предприятие и не процветало, все же я извлекал из него доход достаточный, чтобы проводить месяца два в году не работая, живя по моему капризу! И раз вышло так, что я поселился на пригорке, в домике, метрах в ста пятидесяти от большого железнодорожного разъезда. Почему я выбрал этот домик чтобы провести каникулы, - я точно определить не берусь. Выбирает же бродячая собака, чтобы переночевать, это место, а не то? И выброшенный бурей, после кораблекрушения, моряк, шагая по пустынному берегу, говорит же он себе: разведу костер под этой пальмой, а не под той. Я ехал тогда по дороге, в стареньком автомобиле. И слева от дороги увидал холмик, на котором было строение. Остановившись перед шлагбаумом, у самых путей, я вышел из автомобиля и выпил в кафе бокал пива. Тут-то вот, когда я его пил, мне и пришло в голову спросить хозяина о только что замеченном мной строены. Оказалось, что домик этот принадлежит ему, что он пустует, и что если бы кто пожелал его занять, то он с удовольствием сдаст его. Я тут же заключил сделку. Я заключил ее по тем же причинам, по которым выбирает место бродячая собака или пальму мореплаватель. Инстинкт это, или не инстинкт, я не знаю. С меня оказалось достаточным подняться на холмик, войти в комнату и выглянуть в окно. Из него открывался вид на пути передаточной станции. Конечно, таких видов в мире много. Но этот был моим видом! Как только он мне открылся, так я и сказал себе, что ничего лучшего мне не надо, что это как раз то, чего я ищу.
"Там где начинался первый разъезд, стояла высокая будка, из цемента и стекла, слегка похожая на гриб: ножка и нахлобученная на эту ножку шляпка. Дальше рельсы, то блестящие, то матовые, то темные, - разбегались, раскрывались, размножались точно живые, точно все время выполняющие какое-то распоряжение. Род стальной, распластанной по земле вытянутой в одном направлении ткани, в которой продольные нити рельс настолько преобладали над поперечными шпал, что поперечных почти что и не было. Или сравнение: постоянно задаваемая и постоянно разрешаемая задача, на практике осуществленная формула, неопровержимое доказательство отвлеченных рассуждений. Но может быть я это пишу чтобы найти объяснение моему выбору? Нет. У моего пребывания в домике, на холмике, у передаточной станции, почти сразу появилась цель, заслонившая созерцание, с грохотом проносившихся, ловивших на ходу стеклами окон блестки солнца, экспрессов. В грибоподобной будке я рассмотрел два силуэта. Один из них я определил как основной, другой, его сменявший, как побочный. Первому я придал такое значение, какого, конечно, не придал бы ему никто Другой: во всяком случае не те, которые ему поручили заключенную в грибообразном домике сложную сигнализационную механику. Для них он был просто служащим, мне он показался "душой разъезда". И для того, чтобы проверить свое первоначальное, поверхностное {41} впечатление, я поехал на другой же день в соседний городок и купил там у антиквара древнюю подзорную трубу, которую и установил на треножнике так, чтобы мне все время хорошо был виден грибообразный домик, да и не только домик, а еще и то, что было внутри его. Так рассмотрел я сложную систему рычагов, вспыхивающих лампочек, электрических проводов, катушки с бумажными лентами и распределительные доски с кнопками. Вообще специальную и усовершенствованную аппаратуру.
В ее центре, находился интересовавший меня силуэт, который теперь, благодаря подзорной трубе, перестал быть силуэтом, и приобрел три измерения. По всей вероятности именно из-за того, что я смог его хорошенько рассмотреть, мое любопытство, первоначально бывшее только любопытством, обратилось в сложный комплекс чувств и мыслей, который и лег в основание моего дальнейшего образа действий. Во-первых, лицо человека, которому я приписал сначала роль души расстилавшейся перед ним стальной сети, было необычным. Во-вторых, его образ жизни тоже был необычным. Сначала, стало быть, о лице. Оно было круглым, с чуть-чуть выдававшимися скулами, с чуть-чуть слишком узкими глазами, с чуть-чуть желтоватой кожей. Я тотчас заключил, что он не местный житель, а иммигрант. Позже я узнал, что это так и есть. Теперь об образе жизни: у него были жена и дочь, с которыми он занимал небольшое помещение, по ту сторону путей; оно тоже находилось в поле зрения моей трубы. В это помещение он удалялся, сдавая дежурство другому стрелочнику. Он пересекал пути, идя размеренной и медленной походкой, никогда не поднимая головы. И мне казалось, что даже покинув свою будку и не видя рельсовой сети, он продолжал быть в ее власти, жить для нее, ею и из-за нее. Какое-нибудь плоскогорье, которое он покинул для того, чтобы прибыть сюда, воспоминания, с ним связанные, впечатление, которое оно могло на него наложить в детстве, и весь обусловленный этим первым впечатлением образ мыслей и образ чувств для него, думаю я, умерли. На их месте образовалась пустота и он ее заполнил сначала учебой, и потом, когда выучился, рельсами, составами, сигналами и рычагами. Больше всего, вероятно, рельсами. Это я добавляю потому, что в пейзаже, который расстилался перед моим домиком, рельсы жили, постройки же и сооружения никакой собственной жизнью не обладали.
Наверно, идя домой, стрелочник продолжал видеть только что покинутую сеть путей. И ее же он видел садясь за стол.
"Я не мог, конечно, слышать, о чем он говорил. Но видеть движения его рта - мог. Их было так мало, что могу смело утверждать: семейный обед протекал в почти полном молчании. Его жена ему служила. Это была толстая, по-видимому ничего кроме домашних забот и хозяйственных работ никогда не знавшая женщина. Ее лицо было до такой степени лишено выражения, что даже о возрасте ее составить себе представления я не мог: была ли она на 10, на 20 лет моложе мужа, или его ровесницей, или старше его, - видно не было. Лицо это, впрочем, искажала судорога не то жестокости, не то ненависти, {43} каждый раз как она обращалась к дочери с каким-нибудь приказанием. Девочка срывалась со стула и все выполняла с панической поспешностью. С тем же выражением страха она помогала матери собрать со стола, подметать, складывать скатерть... Отец в это время садился против служебного телефона и курил трубку.
"Все это происходило летом, вечера были длинными. Независимо от света, от положения солнца, от тишины и сияния вечера, всегда в тот же час, ставни помещения закрывались. Стрелочник и его семейство ложились спать. Не могу удержаться от того, чтобы тут же не добавить, что с точки зрения железнодорожной дирекции сей стрелочник был вероятно идеальным стрелочником! Но девочка, но его дочка ! Она осмеливалась - представьте себе! - спустя некоторое время после того, как и идеальный стрелочник, и его жена засыпали, когда вечер уже почти погасал, тихонько, тихонько, осторожно, бесшумно приоткрывать дверь, выскальзывать наружу и садиться на расположенную неподалеку, под кипарисом, каменную скамью, на которой, иной раз подолгу, оставалась, о чем-то (о чем, и как?) думая. Почти трагическим был этот образ, в середине диска, очерченного моей подзорной трубой. И тем более он был трагическим, что в часы утренние, когда идеальный стрелочник шел на дежурство, а его жена на рынок, и девочка оставалась одна, я мог ее рассматривать довольно долго. К удивленно моему я заметил, что эти часы она посвящала рисованию. Откуда-то у нее были карандаши и бумага, которые она, вероятно, и от отца, и от матери прятала. Она выходила, устраивалась на каменной скамье и рисовала. Наблюсти это, впрочем, мне удалось всего несколько раз. Вернувшаяся как-то с рынка в неположенный час мать, увидав чем девочка занята, буквально на нее набросилась, вырвала бумагу, смяла ее, схватила коробку с карандашами и наградила дочь несколькими пощечинами. В обеденный перерыв, за семейным столом, возник бурный разговор. По-видимому, жена рассказывала мужу про поведение дочери. Для начала, тот, в такт ее словам, равномерно наклонял голову. Но когда жена, в виде вещественного доказательства, положила перед ним коробку с карандашами, он пришел в движение. Взяв ее в руки, он ее несколько раз бессмысленно повернул, потом что-то спросил у девочки. Та молчала. Тогда он через стол дал ей пощечину и мать порывисто и грубо ее куда-то, в глубину, утащила. Должно быть заперла в чулан, подумал я. Так, с помощью подзорной трубы, я все глубже и глубже проникал в эту жизнь. Но мой способ оказался обоюдоострым: то, что было перед моими глазами теперь, восстанавливало картины моего собственного детства, загроможденного наказаниями, запрещениями, выговорами, розгами, оплеухами и, главное, постоянным порицанием. Это придавало всему, что я видел в трубу и тому, что угадывал, отличную рельефность! В тот вечер, девочка из дома на каменную скамью не выскользнула. С почти физической тоской я представлял себе, как она сидит запертой, без света, без пищи, может быть без воды. Я тут же решил, что мне надобно, мне интересно, мне {44} облегчительно будет постараться ее из этого ада увести. Признаюсь, Реверендиссимус Доминус, что я думал не только о ней, принимая это решение, но и о себе. Увести ее было задним числом уйти самому. Готовясь учинить жестокость и придавая ей, по моим меркам, очерченные контуры, я мстил и моему отцу, и моей матери за унизительные детство и юность. Дочь идеального стрелочника мне становилась настолько близкой, что морально срасталась со мной. Я начал с того, что постарался внушить ей "ненависть".