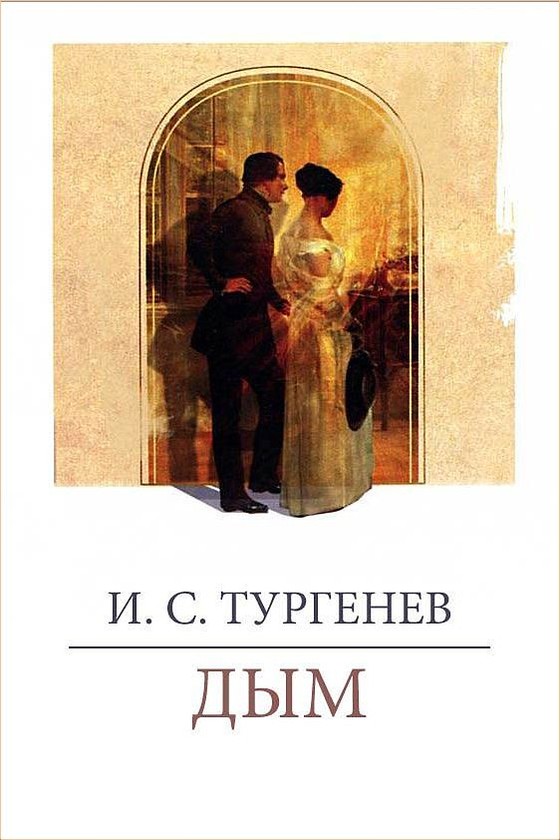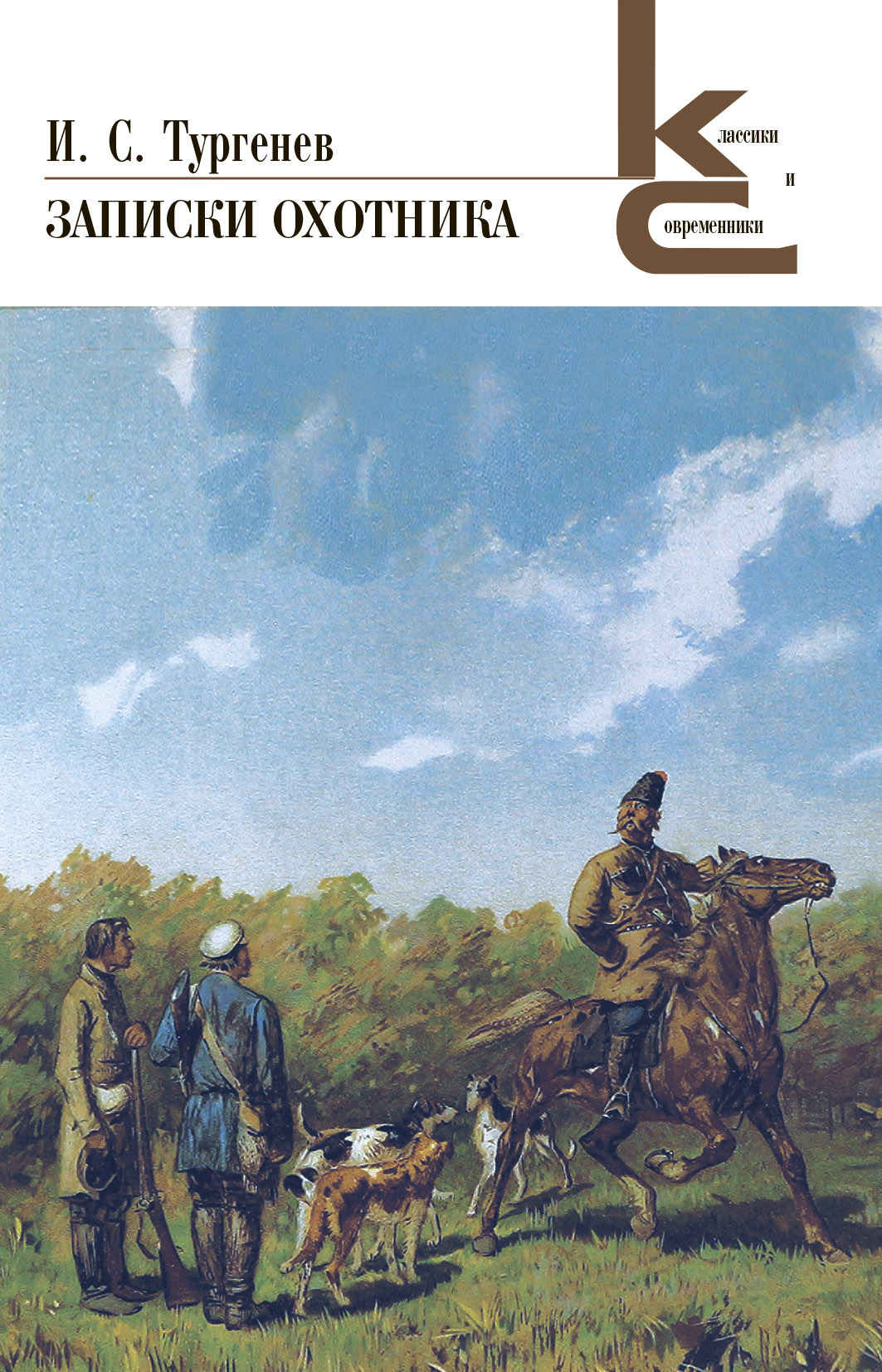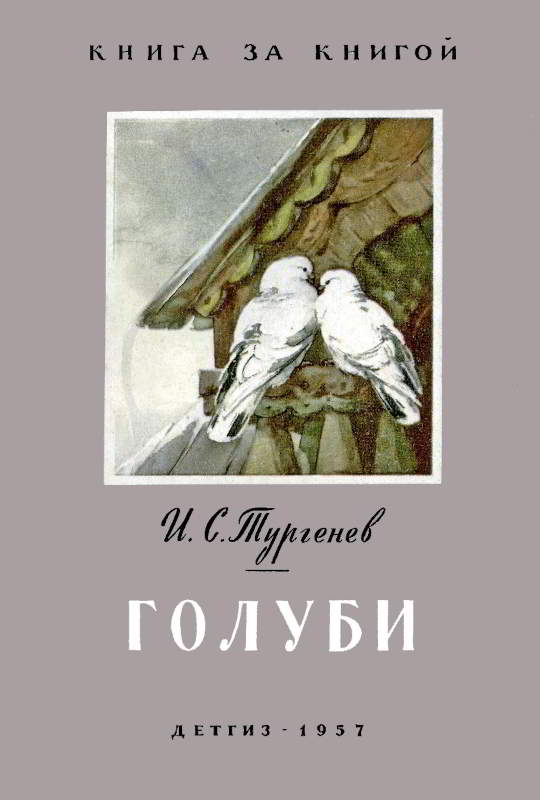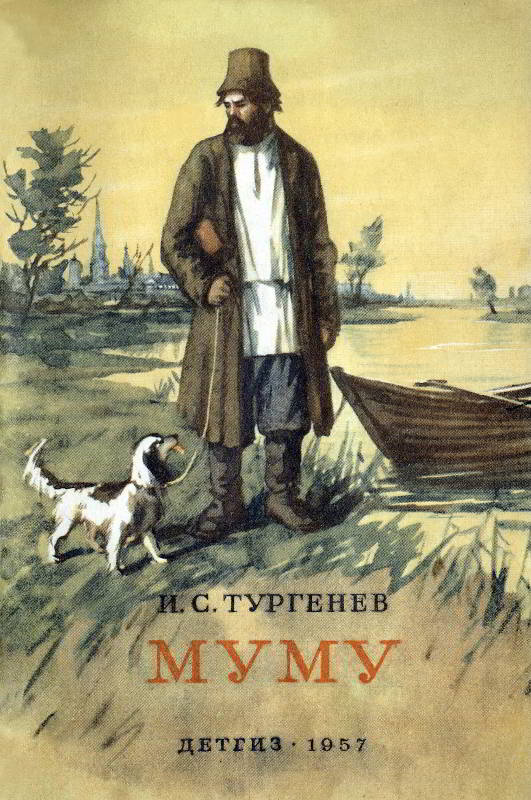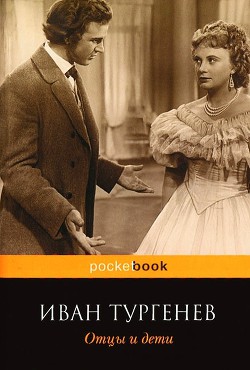знакомый запах поразил его. Он оглянулся и увидел на окне в стакане воды большой букет свежих гелиотропов. Литвинов нагнулся к ним не без удивления, потрогал их, понюхал… Что-то как будто вспомнилось ему, что-то весьма отдаленное… но что именно, он не мог придумать. Он позвонил слугу и спросил его, откуда взялись эти цветы? Слуга отвечал, что их принесла дама, которая не хотела назваться, но сказала, что он, мол, «герр Злуитенгоф», по самым этим цветам непременно должен догадаться, кто она такая. Литвинову опять как будто что-то вспомнилось… Он спросил у слуги, какой наружности была дама? Слуга объяснил, что она была высокого роста и прекрасно одета, а на лице имела вуаль.
— Вероятно, русская графиня, — прибавил он.
— Почему вы так полагаете? — спросил Литвинов.
— Она мне дала два гульдена, — ответил слуга и осклабился.
Литвинов услал его и долго потом стоял в раздумье перед окном; наконец, однако, махнул рукой и снова принялся за письмо из деревни. Отец изливал в нем свои обычные жалобы, уверял, что хлеба никто даже даром не берет, что люди вышли вовсе из повиновения и что, вероятно, скоро наступит конец света. «Вообрази ты себе, — писал он между прочим, — последнего моего кучера, калмычонка, помнишь? испортили, и непременно так бы и пропал человек, и ездить было бы не с кем, да, спасибо, добрые люди надоумили и посоветовали отослать больного в Рязань к священнику, известному мастеру против порчи; и лечение действительно удалось как нельзя лучше, в подтверждение чего прилагаю письмо самого батюшки, яко документ». Литвинов с любопытством пробежал этот документ. В нем обозначалось, что «дворовый человек Никанор Дмитриев был одержим болезнию, по медицинской части недоступною; и эта болезнь зависящая от злых людей; а причиной он сам, Никанор, ибо свое обещание перед некою девицей не сполнил, а потому она через людей сделала его никуда неспособным, и если б не я в этих обстоятельствах объявился ему помощником, то он должен был совершенно погибнуть, как червь капустная; но аз, надеясь на всевидящее око, сделался ему подпорой в его жизни; а как я оное совершил, сие есть тайна; а ваше благородие прошу, чтоб оной девице впредь такими злыми качествами не заниматься, и даже пригрозить не мешает, а то она опять может над ним злодействовать». Задумался Литвинов над этим документом; повеяло на него степною глушью, слепым мраком заплесневшей жизни, и чудно показалось ему, что он прочел это письмо именно в Бадене. Между тем полночь уже давно пробила; Литвинов лег в постель и задул свечу. Но он не мог заснуть: виденные им лица, слышанные им речи то и дело вертелись и кружились, странно сплетаясь и путаясь в его горячей, от табачного дыма разболевшейся голове. То чудилось ему мычанье Губарева и представлялись его вниз устремленные глаза с их тупым и упрямым взглядом; то вдруг эти самые глаза разгорались и прыгали, и он узнавал Суханчикову, слышал ее трескучий голос и невольно, шёпотом, повторял за нею: «Дала, дала пощечину»; то выдвигалась перед ним нескладная фигура Потугина, и он в десятый, в двадцатый раз припоминал каждое его слово; то, как куколка из табакерки, выскакивал Ворошилов в своем общелкнутом пальто, сидевшем на нем, как новый мундирчик, и Пищалкин мудро и важно кивал отлично выстриженною и действительно благонамеренною головой; а там Биндасов гаркал и ругался, и Бамбаев восторгался слезливо… А главное: этот запах, неотступный, неотвязный, сладкий, тяжелый запах не давал ему покоя, и всё сильней и сильней разливался в темноте, и всё настойчивее напоминал ему что-то, чего он никак уловить не мог… Литвинову пришло в голову, что запах цветов вреден для здоровья ночью в спальне, и он встал, ощупью добрел до букета и вынес его в соседнюю комнату; но и оттуда проникал к нему в подушку, под одеяло, томительный запах, и он тоскливо переворачивался с боку на бок. Уже лихорадка начинала подкрадываться к нему; уже священник, «мастер против порчи», два раза в виде очень прыткого зайца с бородой и косичкой перебежал ему дорогу, и, сидя в огромном генеральском султане, как в кусте, соловьем защелкал над ним Ворошилов… как вдруг он приподнялся с постели и, всплеснув руками, воскликнул: «Неужели она, не может быть!»
Но для того, чтоб объяснить это восклицание Литвинова, мы должны попросить снисходительного читателя вернуться с нами за несколько лет назад…
В начале пятидесятых годов проживало в Москве, в весьма стесненных обстоятельствах, чуть не в бедности, многочисленное семейство князей Осининых. То были настоящие, не татаро-грузинские, а чистокровные князья, Рюриковичи; имя их часто встречается в наших летописях при первых московских великих князьях, русской земли собирателях; они владели обширными вотчинами и многими поместьями, неоднократно были жалованы за «работы и кровь и увечья», заседали в думе боярской, один из них даже писался с «вичем»; но попали в опалу по вражьему наговору в «ведунстве и кореньях»; их разорили «странно и всеконечно», отобрали у них честь, сослали их в места заглазные; рухнули Осинины и уже не справились, не вошли снова в силу; опалу с них сняли со временем и даже «московский дворишко» и «рухлядишку» возвратили, но ничто не помогло. Забеднял, «захудал» их род — не поднялся ни при Петре, ни при Екатерине и, всё мельчая и понижаясь, считал уже частных управляющих, начальников винных контор и квартальных надзирателей в числе своих членов. Семейство Осининых, о котором у нас зашла речь, состояло из мужа, жены и пяти человек детей. Проживало оно около Собачьей площадки, в одноэтажном деревянном домике, с полосатым парадным крылечком на улицу, зелеными львами на воротах и прочими дворянскими затеями, и едва-едва сводило концы с концами, должая в овощную лавочку и частенько сидя без дров и без свеч по зимам. Сам князь был человек вялый и глуповатый, некогда красавец и франт, но совершенно опустившийся; ему, не столько из уважения к его имени, сколько из внимания к его жене, бывшей фрейлине, дали одно из московских старозаветных мест с небольшим жалованьем, мудреным названием и безо всякого дела; он ни во что не вмешивался и только курил с утра до вечера, не выходя из шлафрока и тяжело вздыхая. Супруга его была женщина больная и озлобленная, постоянно озабоченная хозяйственными дрязгами, помещением детей в казенные заведения и поддержкой петербургских связей; она никак не могла свыкнуться с своим положением и удалением от двора.
Отец Литвинова, в бытность свою в Москве, познакомился