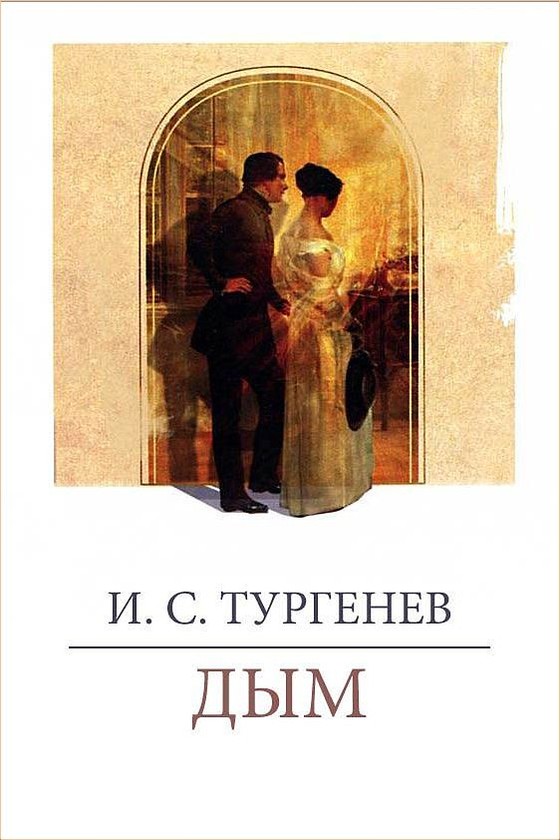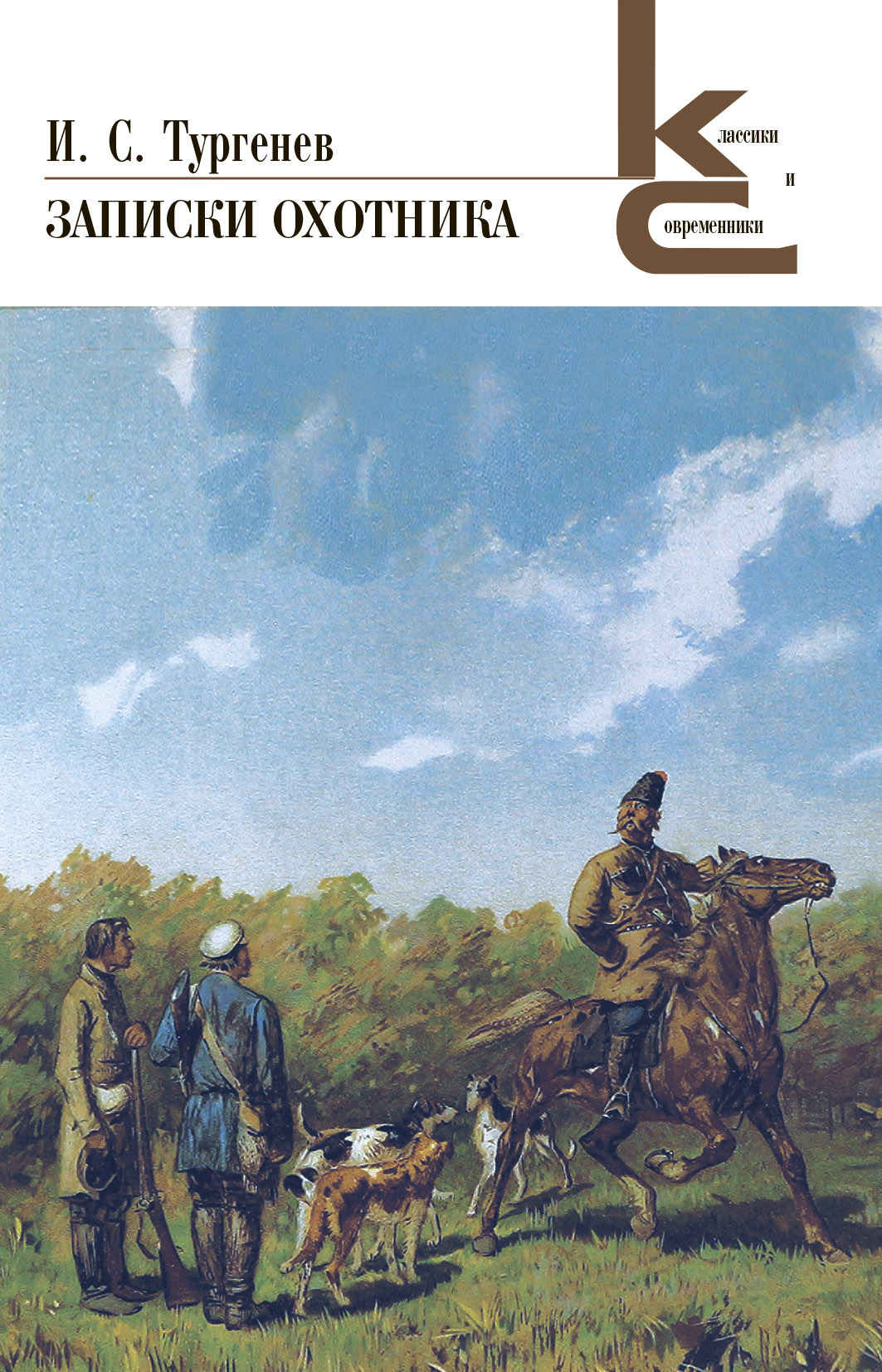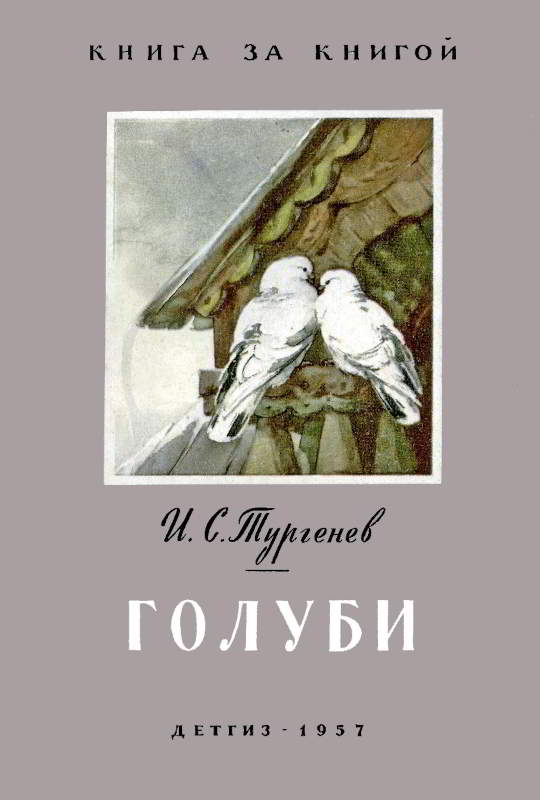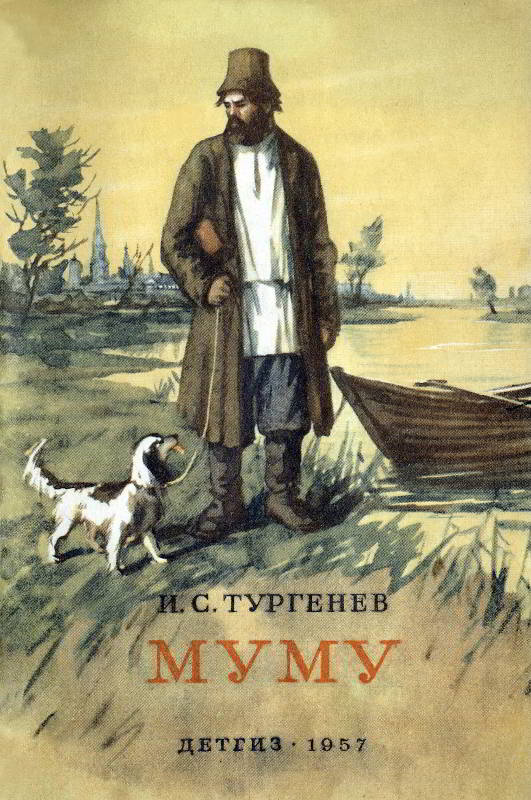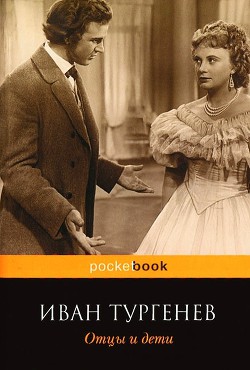что, вкладывая иностранную суть в собственное тело, мы никак не можем наверное знать наперед, что такое мы вкладываем: кусок хлеба или кусок яда? Да ведь известное дело: от худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда через худшее, — и яд в медицине бывает полезен. Одним только тупицам или пройдохам прилично указывать с торжеством на бедность крестьян после освобождения, на усиленное их пьянство после уничтожения откупов… Через худшее к хорошему!
Потугин провел рукой по лицу.
— Вы спрашивали меня, какого я мнения о Европе, — начал он опять, — я удивляюсь ей и предан ее началам до чрезвычайности и нисколько не считаю нужным это скрывать. Я давно… нет, недавно… с некоторых пор, перестал бояться высказывать свои убеждения… Ведь вот и вы не усомнились заявить г-ну Губареву свой образ мыслей. Я, слава богу, перестал соображаться с понятиями, воззрениями, привычками человека, с которым беседую. В сущности я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подленькой угодливости, в силу которой, посмотришь, иной важный сановник у нас подделывается к ничтожному в его глазах студентику, чуть не заигрывает с ним, зайцем к нему забегает. Ну, положим, сановник так поступает из желания популярности, а нашему брату, разночинцу, из чего вилять? Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, — цивилизации, — да, да, это слово еще лучше, — и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци…ви…ли…зация (Потугин отчетливо, с ударением произнес каждый слог) — и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут… * бог с ними!
— Ну, а Россию, Созонт Иваныч, свою родину, вы любите?
Потугин провел рукой по лицу.
— Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу.
Литвинов пожал плечами.
— Это старо, Созонт Иваныч, это общее место.
— Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например: свобода и порядок — известное общее место. Что ж, по-вашему, лучше, как у нас: чиноначалие и безурядица? И притом разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов: презренная буржуазия, souverainité du peuple [15], право на работу, — разве они тоже не общие места? А что до любви, неразлучной с ненавистью…
— Байроновщина, — перебил Литвинов, — романтизм тридцатых годов.
— Вы ошибаетесь, извините-с; первый указал на подобное смешение чувств Катулл, римский поэт Катулл [16], две тысячи лет тому назад. Я это у него вычитал, потому что несколько знаю по-латыни, вследствие моего, если смею так выразиться, духовного происхождения. Да-с; я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул: нужно было проветриться немного после двадцатилетнего сидения за казенным столом, в казенном здании; я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело; но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля… да не расти на ней морошке!
— Вам весело, вам приятно, и мне здесь хорошо, — сказал Литвинов, — и я сюда учиться приехал; но это не мешает мне видеть хоть бы вот подобные штучки… — Он указал на двух проходивших лореток, около которых кривлялось и картавило несколько членов Жокей-клуба, и на игорную залу, набитую битком, несмотря на позднее время дня.
— Да кто ж вам сказал, что и я слеп на это? — подхватил Потугин. — Только, извините меня, ваше замечание напоминает мне торжествующие указания наших несчастных журнальцев во время Крымской кампании на недостатки английского военного управления, разоблаченные «Тэймсом» *. Я сам не оптимист, и всё человеческое, вся наша жизнь, вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете; но зачем навязывать именно Западу то, что, быть может, коренится в самой нашей человеческой сути? Этот игорный дом безобразен, точно; ну, а доморощенное наше шулерство небось красивее? Нет, любезнейший Григорий Михайлович, будемте посмирнее да потише: хороший ученик видит ошибки своего учителя, но молчит о них почтительно; ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют его на прямой путь. А если вам непременно хочется почесать зубки насчет гнилого Запада, то вот бежит рысцой князь Коко́; он, вероятно, спустил в четверть часа за зеленым столом трудовой, вымученный оброк полутораста семейств, нервы его раздражены, притом я видел, он сегодня у Маркса * перелистывал брошюру Вельйо… * Отличный вам будет собеседник!
— Да позвольте, позвольте, — поспешно проговорил Литвинов, видя, что Потугин приподнимается с места. — Я князя Коко́ знаю очень мало и уж, конечно, предпочитаю беседу с вами…
— Очень вам благодарен, — перебил его Потугин, вставая и раскланиваясь, — но я уже так-таки многонько беседовал с вами, то есть собственно говорил я один, а вы, вероятно, сами по себе заметили, что человеку всегда как-то совестно и неловко становится, когда он много наговорит — один. Особенно так, с первого раза: вот, мол, я каков, посмотри! До приятного свиданья… А я, повторяю, очень рад моему знакомству с вами.
— Да постойте, Созонт Иваныч, скажите по крайней мере, где вы живете и долго ли здесь намерены остаться?
Потугина как будто слегка покоробило.
— С неделю я еще останусь в Бадене, а впрочем, мы можем сходиться вот тут, у Вебера или у Маркса. А не то я к вам зайду.
— Все-таки мне нужно знать ваш адрес.
— Да. Но вот что: я не один.
— Вы женаты? — внезапно спросил Литвинов.
— Нет, помилуйте… зачем так несообразно говорить?.. Но со мной девица.
— А! — с вежливою ужимкой, как бы извиняясь, промолвил Литвинов и потупил глаза.
— Ей всего шесть лет, — продолжал Потугин. — Она сирота… дочь одной дамы… одной моей хорошей знакомой. Уж мы лучше будем сходиться здесь. Прощайте-с.
Он нахлобучил шляпу на свою курчавую голову и быстро удалился, мелькнув раза два под газовыми рожками, довольно скупо освещающими дорогу, ведущую к Лихтенталевской аллее.
«Странный человек! — думал Литвинов, направляясь к гостинице, в которой остановился. — Странный человек! Надо будет отыскать его». Он вошел в свою комнату: письмо на столе бросилось ему в глаза. «А! от Тани!» — подумал он и заранее обрадовался; но письмо было из деревни, от отца. Литвинов сломил крупную гербовую печать и принялся было читать… Сильный, очень приятный и