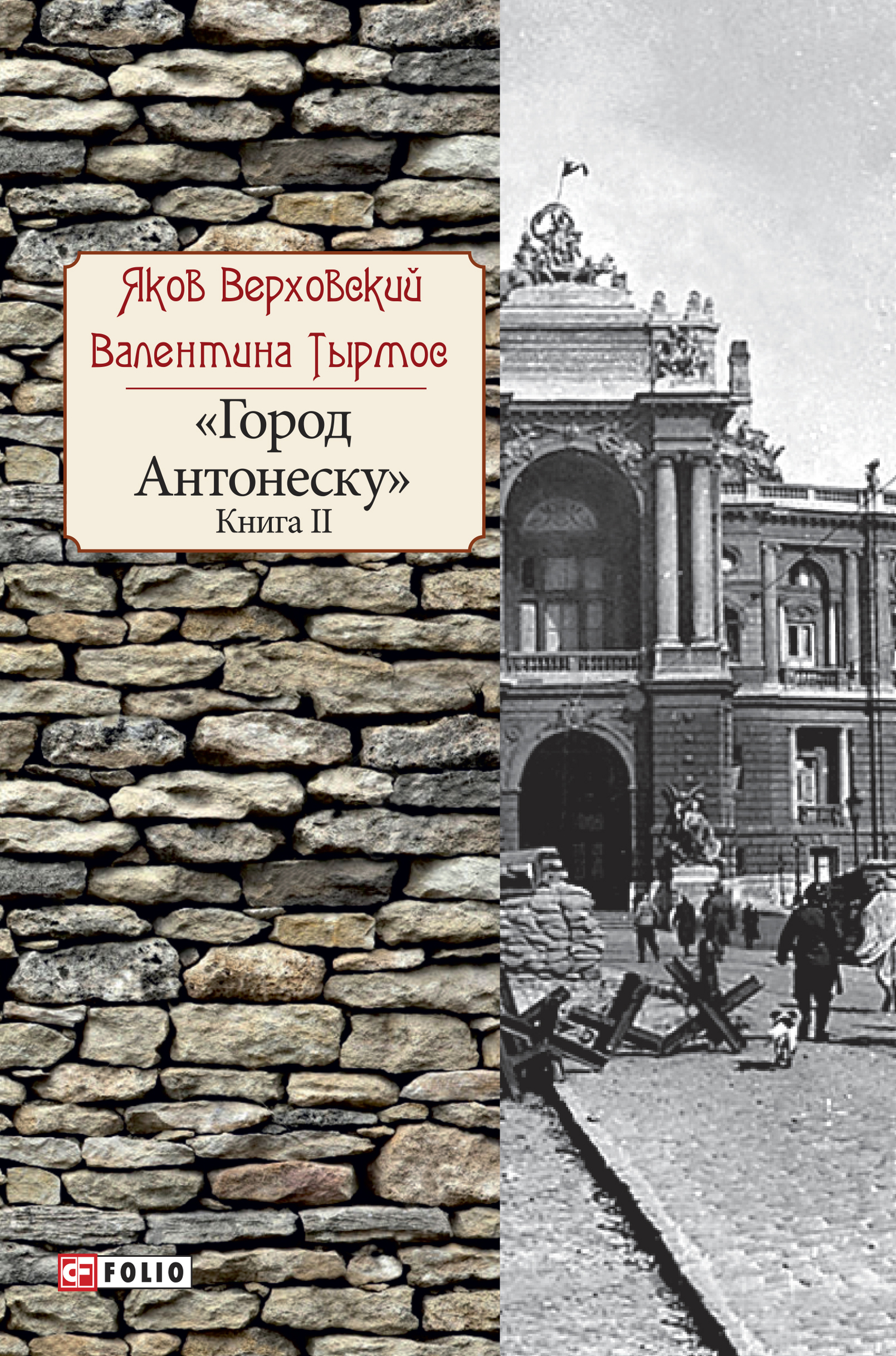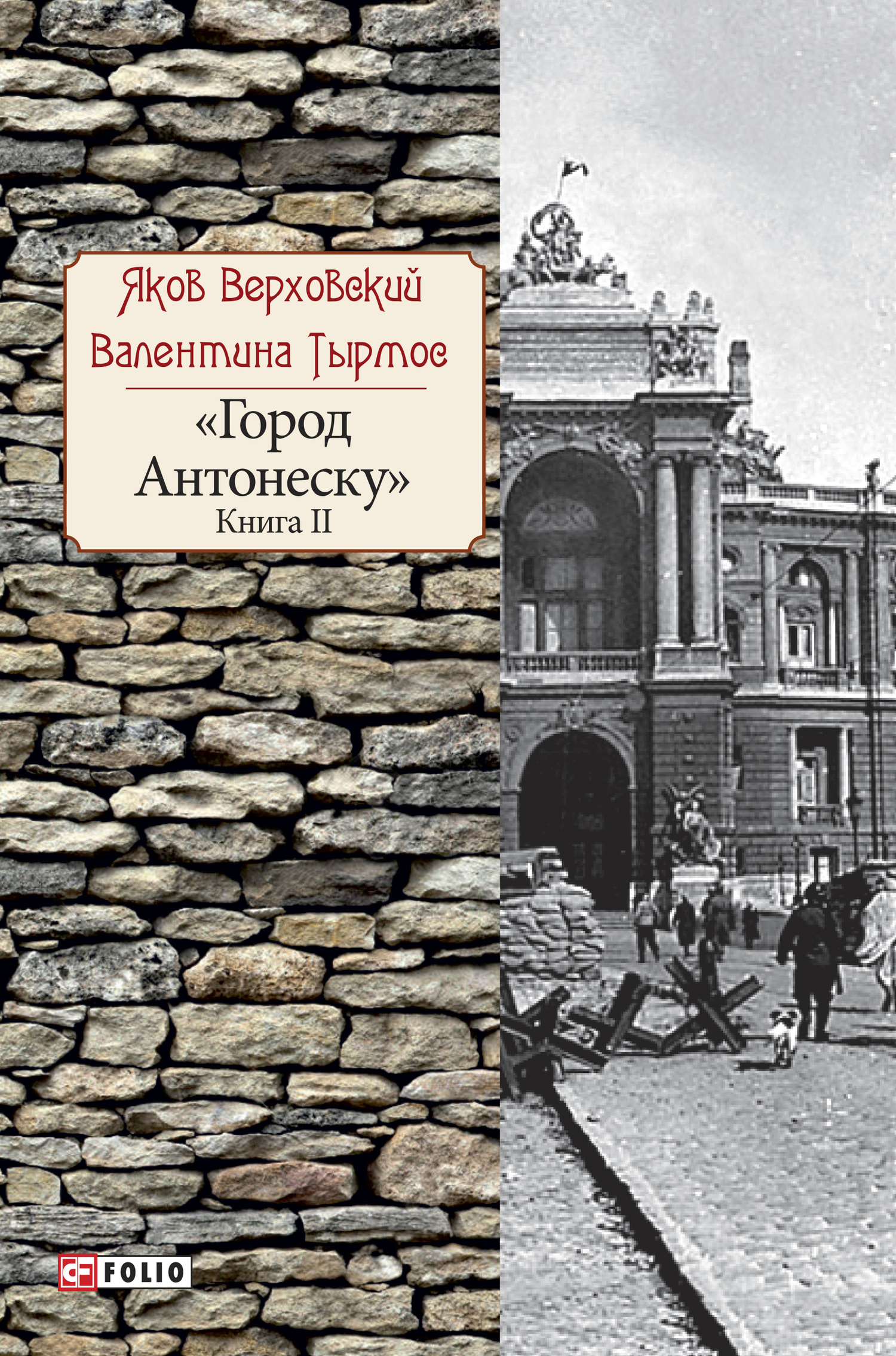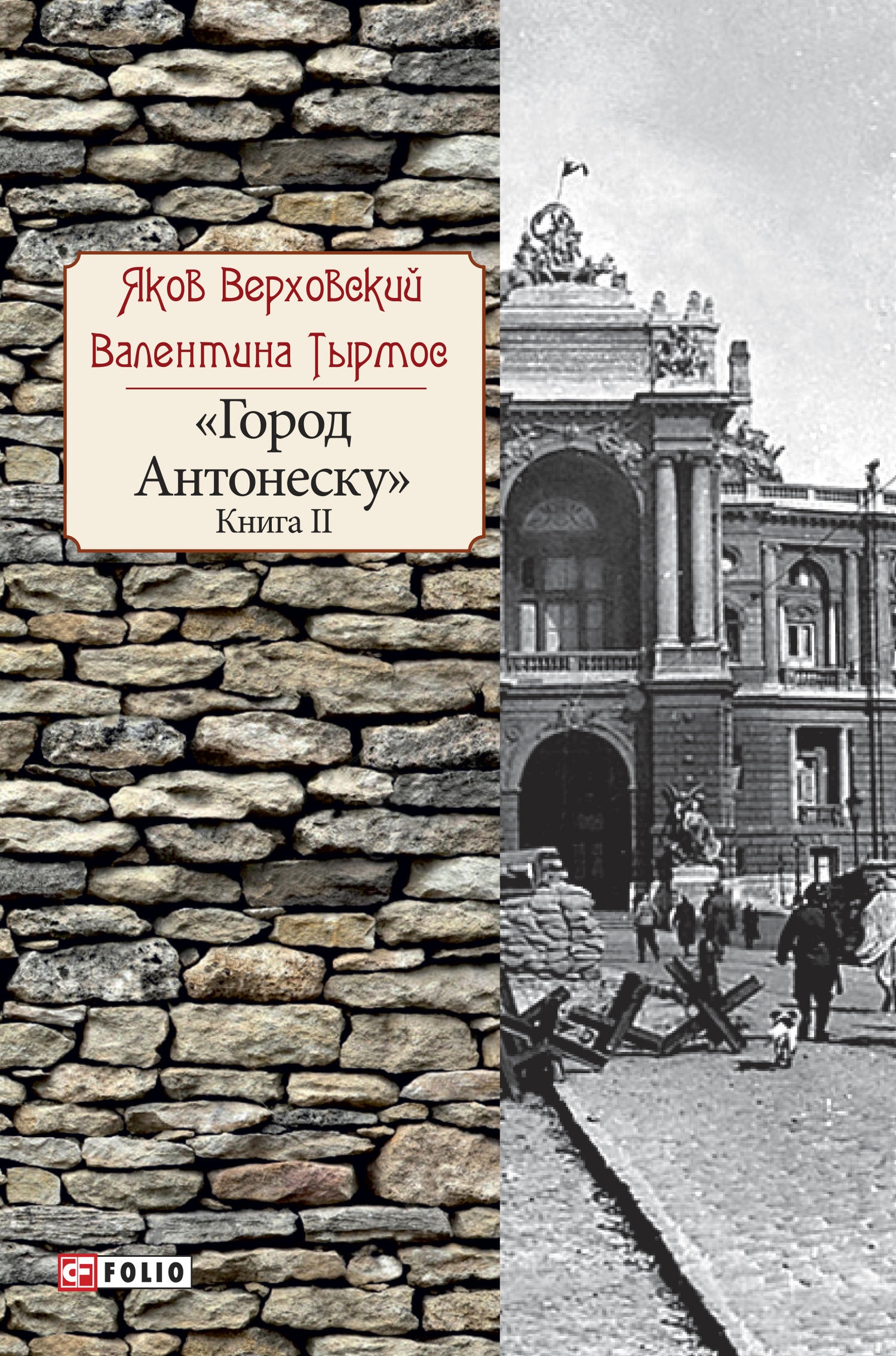эвакуированные, около 40 тысяч, вернулись почти все. За исключением тех, конечно, кто не пережил эвакуацию, в которой, на самом деле, тоже было несладко.
Ну что поделаешь – война…
Все они и сегодня, через 70 лет, не могут без слез вспоминать тот день, когда торжественный голос Левитана как-то особенно… да, конечно, особенно… произнес: «Войс-ка 3-го Украинского фрон-та сегод-ня, 10 апреля, в результате умелого обходного маневра… овладе-ли важным хозяйственно-политическим центром страны… и первоклассным портом на Черном море – Оде-сс-а…»
Вы слышали? Нет, вы слышали?
Он так и сказал: «Оде-сс-а»…
Войска 3-го Украинского фронта «овладели»!
Войска 3-го Украинского фронта освободили… Одессу!
Одессу освободили! Одессу освободили!
Кончилось! Мы едем домой!
«Мы едем домой!» – вопили очумевшие от счастья одесситы.
«Мы едем домой, в Одессу, сейчас же, немедленно!»
Однако «поехать в Одессу немедленно» удалось далеко не всем.
Оказалось, что так же, как в 1941-м трудно было выбраться из Одессы, в 1944-м трудно было в нее вернуться.
Нет-нет, конечно, мы не будем сейчас останавливаться на всех препонах, препятствовавших возвращению, и анализировать их причины.
Скажем только, что одесситы, как всем известно, особый народ.
Одесса звала их, и они, правдами или неправдами, возвращались.
А вернувшись, не узнавали родной город.
И дело было даже не в покореженных тротуарах Дерибасовской и в вывороченных рельсах трамваев на Екатерининской, и даже не в какой-то общей разрухе, голоде и отсутствии воды и электричества.
Дело было значительно глубже…
Дело было в душе этого необыкновенного города.
В душе, которую исковеркала оккупация.
Дело было в том, что исчезли родные и близкие, престарелые бабушки и дедушки, тетки, дядья, племянники. И не было даже возможности узнать об их страшной судьбе. И не было даже могил, чтобы пролить на них слезы.
Так бесследно исчезла вся большая семья Давида Фудима – 32 человека, среди которых профессор Григорий Фудим, повешенный 23 октября 1941-го на Александровском проспекте.
«Их поиски… оказались безуспешными, – вспоминает племянник профессора Додя. – Но из того, что удалось услышать от разных людей, сложилась страшная картина гибели всех…» [33]
С каждым днем по мере возвращения одесситов проявлялись чудовищные масштабы трагедии.
Исчезли не только родные и близкие, исчезли друзья, сокурсники, коллеги, соседи по коммунальной квартире и даже на Дерибасовской, где так любили они гулять и встречать друзей, не было больше знакомых лиц.
В Одессе просто не было больше евреев.
И никакая бурлящая радость освобождения не могла это скрыть.
И никакая бурлящая радость освобождения не могла смыть с дворовых ворот кресты, вопящие о том, что евреев здесь нет.
И эти, начерченные дворниками белые меловые кресты, теперь уже полустертые, стали каким-то мистическим символом конца еврейства Одессы.
Казалось, что все.
Последняя точка.
Крест…
«Это была уже не та Одесса, какую мы знали в прошлом, – пишет английский журналист Александр Верт, попавший в наш город в средине апреля 1944-го. – Прежде всего это была Одесса без евреев» [34].
И вернувшиеся в Одессу вдруг обнаружили, что им, по сути, некуда возвращаться. Родных и друзей нет на свете, город загажен и разорен, квартиры захвачены остававшимися в оккупации соседями, а имущество разграблено.
С имуществом было еще куда ни шло – отдельные предметы мебели можно было отыскать у тех же соседей, у дворников, у домработниц. Правда, за детской кроваткой или за бабушкиным комодом иногда приходилось тащиться в какую-нибудь деревню, куда в страхе свалила преданная домработница.
Именно так и произошло с родителями Ленчика Сокола, нашедшими свою мебель у домработницы Маруськи в деревне Борщи.
Та же Маруська сообщила им, что, будучи человеком исключительной доброты, она «проводила» их 90-летнюю бабушку Фрейду, за которой должна была присматривать, в гетто на Слободку и даже дала ей «пакетик с едой».
А могла бы не провожать!
Могла бы уложить едва дышавшую старуху в кровать, укрыть с головой одеялами и выдать за свою больную бабушку. Вряд ли румыны в студеную зиму 1942-го, когда 40 тысяч евреев, увязая в снегу, тащились в гетто, стали бы интересоваться одной отдельно взятой старухой.
Старая Фрейда смогла бы тогда умереть в своей постели.
А это, оказывается, большое счастье…
Возврат найденного имущества не всегда проходил дружелюбно.
«Привыкнув» к награбленному, новые владельцы не желали с ним расставаться.
Так, одна из соседок родителей Ролли категорически отказалась вернуть изрядно потрепанного игрушечного тигренка, хотя тигренок, несомненно, узнал свою маленькую хозяйку. Он, по ее словам, очень жалобно смотрел на нее с соседского комода и якобы даже на прощание махнул лапкой.
Но если какие-то личные вещи еще как-то можно было найти и вернуть, то выселить из квартир «прижившихся» там за годы оккупации новых хозяев было почти невозможно.
Удивительно, но местные власти обычно не вмешивались в «квартирные конфликты», и во многих известных нам случаях вернувшиеся остались без крыши над головой и вынуждены были ютиться в выделенных им комнатушках в коммунальных квартирах на окраине города.
Конечно, если хозяин квартиры являлся к «захватчикам» в военной форме, сверкая золотом новых погон и орденов, то вопрос решался незамедлительно.
Так именно и произошло, когда в свою квартиру на Островидова, 66, вернулся дядька Вадика Гринштейна и обнаружил там соседей. Дядька, морской пехотинец, косая сажень в плечах, потерявший руку в боях за Крым, по свидетельству Вадика, устроил там, конечно, «маленький погром», и захватчики тут же бежали, обгоняя собственный визг.
Не в лучшем положении оказался и дворник, вселившийся в квартиру родителей Лили Гиммельфарб. Нет, конечно, отец Лили, флагманский эпидемиолог Черноморского флота, профессор Яков Гиммельфарб погрома устраивать не стал. Но для дворника, который вряд ли разбирался в эпидемиологии, и одной капитанской формы профессора было достаточно.
С устройством на работу тоже было непросто.
Очень многие рабочие места для евреев были почему-то «закрыты», в том числе и те, что они занимали до войны.
Многократно описанный сталинский государственный антисемитизм уже набирал обороты.
Так, видимо, было по всей стране. Но в Одессе к этому государственному антисемитизму примешивалось и перекрывало его нечто свое, особенное, еще более мерзкое. Вся черная ненависть к евреям, всплывшая на поверхность за годы румынской оккупации, не желала оседать.
Жители «Города Антонеску» видели «это» – видели сотни, тысячи повешенных, пристрелянных, гонимых в гетто, валявшихся в лужах крови, как дохлые псы, на улицах и площадях.
Жители «Города Антонеску» слышали их мольбы, молитвы, слышали их предсмертные вопли и хрипы.
Видели, слышали и не могли забыть – не желали забывать.
Странно, но они как будто бы были уверены в том, что жидов больше нет, не существует. Убили их