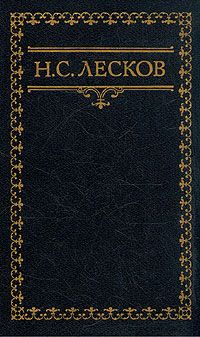– А нам-то вот худо, а не хорошо.
– Потерпеть надо, касатушка! Нонче все терпят… Голодный год настал!
– Поди-ко ребята-то воют, так не утерпишь… и самому есть хочется… в животе как веретеном сучит… Нам хуже собак… те падло лопают да еще нас за лытки рвут… Вон меня искусали всю!
– Надо с палочкой.
Тут нетерпеливая племянница на тетку и осердилась, что та все ей советы дает, когда той так горько жить!
– Перестань, – говорит, – ты мне тоску отводить; через эти твои слова еще хуже мне; ведь у нас знакомых купцов нет, нам идти не к кому, а ты вон еще мою девчонку всю избаловала.
– Ну зачем пустое говорить: чем я ее избаловала?
– Как же чем?.. все ее чистым хлебом кормила и побираться не пущала!
– Что ж, где ей побираться, когда она махонькая!.. А ты ее отпусти со мной: я и ее с собой в город сведу… у меня есть там хозяева добрые… мои вынянченные; они велят нам с ней и вдвоем жить… будем вдвоем садиться с прислугами.
– А другие-то мои детушки мне, думаешь, разве не жалобны? – говорит солдатка. Тут старушка и задумалась.
– Другие! – говорит. – Да… вот то-то и есть… Еще и другие есть!
Развела руки, и опять задумалась, и стала сама к себе втишь приговаривать:
– Ox, ox-ox-ox!.. Одни да и другие есть… да и много их… Вот и горюшко! А чту сделать-то?
А солдатка, не долго думая, отвечает ей:
– А ты не знаешь, баунька, чту сделать?
– Не знаю, касатынька.
– Вот то-то и оно.
– А ты разве знаешь что-нибудь?
– Я знаю.
– Так ты скажи.
Солдатка задумалась, слов у нее не находилось для выражения того, чту она придумала.
И старушка молчит.
Тягостно-тягостно стало в темной избе, как будто сатана взошел.
Старушка вздохнула и сказала:
– Встань-ка, касатка, подойди к печке, вздуй огня.
А племянница ей грубо ответила:
– А на что тебе огонь – вовсе не надобно.
– Как же не надобно… темно совсем.
– Ну так что ж, что темно?.. Нонче… все без огня… Ложися спать, баунька!
– Да зачем же так… впотьмах… Надо стать богу помолиться.
– Ну и помолись, баунька.
Та не поняла или не расслышала и переспросила:
– Что, матушка?
– Помолись, говорю, баунька.
– Да что ты меня торопишь – придет час, так и помолюсь.
– Нет, баунька, час уж пришел – скорей молись.
– Да что ты пристала!.. Я стану ложиться спать – помолюсь… Ступай-ка домой, а ко мне девку ночевать посылай, мы с нею станем ложиться спать и помолимся.
Тогда солдатка видит, что бабушка бестолкова, и потому ей еще менее причины оставаться в живых, и сказала ей начистоту:
– Нет, ты к себе мою девку не жди, она не придет.
– Отчего не придет?
– А оттого, баунька, что к тебе твой конец пришел. Если не хочешь молиться – так и так будь тебе легкая смёртушка.
Старуха стала приподниматься и спросила:
– Что?..
– Прощай, баунька! – Солдатка всхлипнула, обняла старуху, поцеловала ее и сказала:
– Теперь помирай!
– Что ты это… я не хочу! – и старушка бессильно замахала руками.
– Нет уж все одно… помирай!
И с этими словами солдатка опрокинула «бауньку» на ее же кроватку, накрыла ей лицо подушкою да надавила своей грудью полегонечку, но потом сама вдруг громко вскрикнула и начала тискать старуху без милосердия, а руками ее за руки держала, «чтобы трепетания не было».
(Так это все с большою подробностью сама солдатка рассказала при следствии.)
«Баунька» после этого почила скоро, а убийцею сейчас же был сделан в имуществе убитой самый внимательный розыск; но «всех денег» у богачихи в шерстяном пагленке в коробье найдено полтора рубля, и больше ничего у этой богачихи не было.
В этом и заключались ее «все деньги», о которых она с обстоятельностью рассуждала за пару минут до определенной ей «легкой смёртушки».
Но смёртушка бауньки, как ни старалась ее облегчить добрая племянница, – все-таки, видно, трудновата пришлась ей.
Когда рассвело на другой день, солдатка взяла с собою любимую внучку покойной и пошла вместе с нею навестить бабушку, и нашли ее, разумеется, мертвою, а лицо у нее синее и руки в пятнах, а глаза выпучены и язык наруже, длинней Аллилуева.
Девчонка как увидала это, так сейчас затряслася и замерла, а мать говорит ей «не своим голосом»:
– Ничего не шкни… убью!.. Говори: где у нее были ножницы?
Девчоночка, дрожа, показала молча ручонкою на коробью, в которую уже вчера еще лазила солдатка за деньгами.
Теперь она опять открыла эту коробью, в которой было все перерыто, и, перебросав еще больше лежавшие там ветошки и тряпочки, нашла на дне коробьи безручные ножницы, которыми стригут овец, и, схватив их в дрожащие руки, подошла к мертвой и отрезала у нее выдающийся конец языка; но от этого язык наруже как будто нимало не уменьшился, а только стал еще безобразнее.
Солдатка взглянула на свою работу, взяла за руку девочку и пошла к сотскому, – вошла тихо, помолилась на образ и сказала:
– Вяжи мне руки!
– Что тебе, дура, попритчилось, что ли? – спросил сотский.
– Нет, вяжи руки: я бабку убила.
– Врешь на себя!
– Нет, не вру, – отвечала солдатка и, севши на лавку, раскрыла свою грудь и сказала: – Накось, глядите-ка – вот они тяпочки… Это когда я ее вчера душить стала, так она меня зубами за титьку тяпнула.
Тогда пошли и удостоверились и увидали, что солдатка говорила правду, и связали ей руки и увезли ее в стан, а оттуда – «куда дела требуют».
Через год ее били кнутом в Орле на Ильинской площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сложенная. Ей дали пятнадцать ударов и растерзали ей до кости все бока и спину, но она не потеряла чувств и за каждым ударом вскрикивала: «Понапрасно страдаю!» А когда ее сняли с деревянной кобылы, и она увидала на своей свитке набросанные медные деньги, то заплакала и сказала:
– Не надо мне ничего, сошлите всё в деревню на церковь.
О детях своих она, может быть, позабыла.
И таких преступлений, поразительных по несложности их замыслов и по простоте и холодности их выполнения, было слышно очень много, и очень значительное число их осталось неисследованным и даже неизвестным далее своего околотка. Становые пристава за всем уследить не могли; «корреспондентов» тогда еще не водилось, а в губернских ведомостях все новости состояли из распоряжений начальства о перемещении и увольнении чиновников и, в виде особенно интересных случаев, об отдаче их под суд.
Особенно поразительна была холодность и какая-то легкомысленная жестокость в действиях, затевавшихся с голода. В соседнем с нами селе пастух Игнашка с подпаском, например, захотели «есть убоину» и с этой целью сами вдвоем отлучили одну исправную телом овцу от стада и сволокли ее в лесной овраг, чтобы тут зарезать и начать ее есть; а на деревне сказать, что ее волк съел. Но, спустясь в овраг, они вздумали, что всей овцы им за один день не съесть, а недоеденное мясо протухнет и пропадет даром. Тогда они порешили овцу не зарезывать, а связать ее и отрезать у нее у живой столько мяса, сколько им на день нужно, а остальная овца пусть лежит и дожидается. Они так и начали – отрезали у живой овцы «четверть», спекли ее и съели, а остальное оставили в овраге, – а сюда пришел в самом деле волк и прекратил терзательные мучения овцы и сволок и сожрал ее всю без остатка, а пастухи, не найдя овцы на другой день, заподозрили друг друга в краже, подрались и друг друга выдали. Игнашку прозвали «живорезом».
Женский пол, как замужние, так и незамужние, продавали свои труды нипочем: в услуги или на работу поденно охотно набивались «из-за прокорму», но и на этих условиях в деревнях места нельзя было найти. Духовенство набрало себе бесплатных батраков и батрачек, но только в потребном числе, а предложение услуг было безмерно. Цена же женских изделий была невероятная: «конец холста» продавали за полтину медью (7 аршин за 14 копеек), «початок пряжи» – за медную гривну (3 коп.), и фунт хлеба стоил 3 коп. Покупали все это грабительским образом торгаши, которых называют «кошатниками» или «кошкодралами». Они покупают кошек и тут же их убивают о колесную шину телеги или о головашку саней. Цена кошки черной и серой – гривна, а пестрой – пятак меди. Этим же кошкодралам бабы и девки тогда продавали «свою девичью красу», то есть свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цена на которую, за обилием предложения, пала до того, что женщины и девочки, иногда самые молоденькие, предлагали себя сами, без особой приплаты, «в придачу к кошке». Если кошатник не хотел брать дрянную кошку, то продавщица стонала: «купи, дяденька, хороший мой: я к тебе в сумерки к колодцу выйду». Но кошатники были этим добром изобильны и не на всякую «придачу» льстились; они цинически рассказывали, что им теперь хорошо, потому что «кошка стоит грош вместе с хозяйкою». Кошачья шкура была товар, а хозяйка – придачею. И этот взгляд на женщину уже не обижал ее: обижаться было некогда; мученья голода были слишком страшны. С этим же взглядом освоивались и подростки-девочки, которые отдавали себя в таком возрасте, когда еще не переставали быть детьми… Вообще крестьянские женщины тогда продавали свою честь в наших местах за всякую предложенную цену, начиная с медной гривны, но покупатели в деревнях были редки. Более предприимчивые и приглядные бабы уходили в города «к колодцам». И у себя в деревнях молодые бабы выходили вечерами постоять у колодцев – особенно у таких, на которые подворачивают проездом напоить коней обратные ямщики, прасолы или кошкодралы, и тут в серой мгле повторялось все то, что было и в оны дни у колодца Лаванова. Здесь взаимно омрачала друг друга и старость и юность, и все это буквально за то, чтобы «не околеть с голода»… Не могу теперь ясно ответить, почему сельские женщины и в городах местами своих жертвоприношений избирали «колодцы», у которых они и собирались и стояли кучками с сумерек. Может быть, в других пунктах их прогоняли горожанки. Особенно в этом отношении в Орле прославились крытые колодцы у Михаила Архангела и Плаутин. Кроме того, множество женщин ютилось по пустым баркам, зазимовавшим во льду между Банным мостом и мужским монастырем и его слободкою. Срам это был открытый, но его как-то не вменяли в преступление. Старшие семьянинки не только отпускали молодых на ведомое дело, но еще склоняли к тому, говоря: «чего так-то сидеть: надо сойти в город у колодца раздобыться». А молодых не нужно было много уговаривать: правила их всегда были шатки, а голод – плохой друг добродетели. Молодайки уходили, мало таясь в том, на чту они надеются, и бойкие из них часто прямо говорили: «чем голодать – лучше срам принять». Когда они возвращались от колодцев, их не осмеивали и не укоряли, а просто рассказывали: «такая-то пришла… в городу у колодца стояла… разъелась – стала гладкая!»[2]