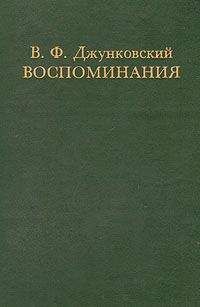— Грек? Ха-ха-ха… А вы же утверждали, что итальянец?
— Ну, конечно, и итальянец… Скажи-ка, Мишель. Но Шипов в этом пикировании обычно не участвовал, он только молча улыбался да разглядывал Дарью Сергеевну и думал, что она все-таки хороша, не в пример Матрене, и тоже вдова, а Тула — не Москва, конечно, но жить можно.
Все было у Дарьи Сергеевны, у Даси, такое, словно природа заранее позаботилась, чтобы угодить Шилову: маленькое добротное тело, белое круглое лицо, голубые глаза. Кольца русых волос покоились на ее аккуратных розовых ушках. Аромат духов и пудры витал над нею, словно невидимый ангел. Когда она находилась рядом, трудно было усидеть, такой жар исходил от нее.
С тех пор как в доме поселились мужчины, Дасе не стало покоя, то есть не то чтобы именно ей, а они все трое жили в каком-то нелепом полусне или даже кошмаре.
Дело, видимо, заключалось в том, что наши компаньоны со дня приезда еще и не думали заниматься своим государственным делом, а только ели, пили, любезничали с Дасей, отсыпались и уже через несколько дней сладкого своего житья округлились и похорошели. И это было бы прекрасно, когда бы рядом не существовала Дася, когда бы она не разговаривала и не смеялась с ними, не взглядывала многозначительно, не краснела бы; если бы они не слышали ежедневно стука ее каблучков, если бы не вздрагивали всякий раз, когда ее босые ножки прошлепывали где-то там, внизу, в таинственной ее спальне.
Дася определила постояльцам две светелочки, в которых они проводили ночи, полные тревог и предчувствий, и с полудня до вечера занималась ими, как могла, скрашивая их жизнь, да и свою тоже.
Ей было известно, что постояльцы приехали в Тулу для устройства личных дел, а почему они ими не занимаются и как им надлежит устраиваться дальше, она не спрашивала.
Безоблачность первых дней постепенно исчезла. Дасины многозначительные взгляды обжигали все сильнее и чаще, движения рук становились резче. Она теперь неожиданно прерывала свой смех, и лицо ее на мгновение омрачалось. Правда, справедливости ради нужно заметить, что до наступления вечера она оставалась прежнею, но вот едва опоражнивался самовар, и прислужница Настасья отправлялась спать в свою каморку под лестницей, и они оставались втроем в маленькой кружевной гостиной, как дремавшее в них электричество начинало испускать разряд за разрядом, глаза их вспыхивали, фразы не договаривались, хохот не радовал, а руки не находили места.
Потом, когда не оставалось уже ни слов, ни желания смеяться, а только легкое потрескивание слышалось в тишине то ли от догорающих свечек, то ли от кипения страстей, она вставала и отправляла их по светелкам.
— Ступайте, ступайте, — говорила она, нервно теребя оборки на платье, — мужичье, мужланы. Все вы одинаковы. Вам бы только оскоромиться. Ступайте, ступайте… А Дася пойдет в спальню и будет всю ночь молиться… А вы не топайте там своими сапожищами и не мешайте ей, мужичье! — И она уплывала к себе.
Иногда она оборачивалась в дверях и грозила им маленьким пальчиком.
— Знаю, знаю, что за мысли у вас в головах. Знаю. И не мечтайте, судари мои… Ишь вы!..
Они тоже поднимались в свои светелки, свечи гасли, но электричество продолжало испускать искры и легкое таинственное потрескивание нарушало торжественную тульскую тишину.
Шипов залезал под пуховое одеяло и удивлялся своей новой жизни. За стеной поскрипывала лежанка под Гиросом, но о компаньоне в такие минуты Шипов не думал. Все мысли его откровенно и нагло устремлялись вниз, сквозь пол, туда, откуда доносились различные тихие звуки. И он определял: вот она молится, вот босичком пробежала, вот улеглась — зазвенели пружины, и снова шлепанье босых ножек, и снова звон пружин, и голос (молится), а может, опять те же пружины. Вдруг глухо хлопала дверь, молитва обрывалась, звон пружин возносился к потолку, бился о него, ломал крылья и падал бездыханным… Да что же это такое!
Шипов поднимался и в одном исподнем появлялся в каморке Гироса. Компаньона он заставал обычно лежащим на лежанке животом вниз, голова его свешивалась к полу так, что черные волосы Амадея касались досок. Однажды так вообще Гирос устроился на самом полу, лежал, распластавшись, словно убитый, и слушал, что делается в спальне у Даси.
Чтобы заглушить ночную тревогу, Шипов говорил:
— Ишь отъелся, кот… А кто же, эскузе муа, будет работу делать?
На что Гирос обыкновенно отвечал:
— Ну, Мишель, ты только прикажи. Я куда ты пожелаешь, хоть в огонь… Мне ведь ничего не стоит. Хочешь?.. Действительно, ты прав; ну, пожили, осмотрелись…
— Завтра езжай к их сиятельству, — говорил Шипов насмешливо, — они тебя ждут, сетребьен.
— Ах, Мишель, — вскакивал Гирос, — ну что ты какой, право! Все поверить не можешь! Да я же не врал тебе, не врал… Вот увидишь, когда я тебя к графу повезу, к Левушке, вот увидишь… Тогда ты убедишься, черт возьми! Вот увидишь тогда… Я же не врал. Это швейцар дурень, соня… А ты уши и развесил! — И он ослепительно улыбался. — Вот ты увидишь, дай срок. Мое сердце обливается кровью, черт…
— Нет уж, лямур-тужур, будя со сроками, — настаивал Шипов, — завтра и отправляйся.
— Ну хорошо, хорошо, — отбивался Гирос, — экое дело, прости господи! Да мне ничего и не стоит. Я даже рад буду встретиться с графом… Ну, гони, Мишель, легавую, гони ее, гони!
Внизу хлопала дверь, звенели пружины, и компаньоны замолкали, и Шилову казалось, что нос Гироса упирается в самый пол и уже готов пробить доски…
— Ну чего, — говорил Михаил Иванович, стряхивая оцепенение, — чего уставился, мои шер? Или позабыл про завтра-то?
Гирос выпрямлялся, гладил нос, смеялся беззвучно.
— Но я-то рад! Я рад чертовски, что ты мне наконец разрешил посетить графа… Ей-богу. Ты знаешь, я скажу тебе: граф, может, и преступник, даже наверняка преступник, но он мне нравится. Он веселый, ни о чем не догадывается… А я люблю игру… Ты мне дашь денег? Просто у меня ни копейки… Ну мало ли что. Я ведь, в конце концов, на службе…
— А вот съездишь, — отвечал Шипов непреклонно, — все тебе будет.
А сам думал с тоской, что не к добру эта сладкая жизнь, и очень просто все это может кончиться, и не прилетят денежки, как белые лебеди из южных стран. Ах, скоро-скоро к ответу призовут, а он и знать ничего не знает: какой такой граф, какая такая Ясная Поляна… Канцелярия денег не шлет, а время придет — все равно спросит, она не помилует.
Да, Москва пока молчала и ни о чем не спрашивала. Шипов все чаще и чаще видел перед собою как бы прикрытые легким туманом ее златые маковки да зубчатые стены…
И снова внизу раздавалось шлепанье босых ножек, и приглушенный голос, и словно всхлипы, и оба они вновь забывали обо всем, и вытягивали шеи, и замирали.
И опять Шипов погружался в жар своей перины и закутывался с головой, словно спасался от кошмара, но ухо само вылезало на свет божий, чтобы ловить звуки, взлетающие снизу.
«Пущай он прокатится, — думал Шипов, — пущай он с графом кофей пьет… Ах, лишь бы разнюхать все как есть, как там, чего там, донесение послать. Тогда, глядишь, и денежки рекой пойдут, в Петербурге ведь тоже не дураки… Да пущай он завтра отправляется, будя ему, антре, баклуши бить».
Но наступало утро, и все продолжалось по-прежнему. Дарья Сергеевна, Дася, хлопотала по дому как ни в чем не бывало, не замечая в доме мужчин; Гирос после чая укладывался на свою лежанку и, нацелив нос в потолок, засыпал; а Шипов отправлялся по Туле к почтовой станции в надежде получить деньги или хотя бы письмо. Но ни денег, ни писем не было.
Дася платы с них вперед не просила, а поэтому они пили и ели с размахом, ни о чем не заботясь, хотя, конечно, маленькая, совсем пустяковая тревога где-то там, в самой глубине ворошилась постоянно.
Иногда же ночное безумство достигало предела и сон отлетал прочь, словно его никогда и не бывало, словно они и не ведали, что значит заснуть и забыться, а, напротив, только и ждали вечера, чтобы, подобно сомнамбулам, срываться с отвратительного ложа и, простирая руки, искать друг друга в темном доме. И тогда Шипов слышал, как вскакивал Гирос с топчана, как возился у себя в темноте и наконец выходил из светелки, шурша валяными сапогами, сопя и бормоча проклятия, и осторожно устремлялся вниз по скрипучей лестнице.
«К ней пошел!» — догадывался Шипов и тоже вскакивал, тараща в темноте глаза, сопя и бормоча проклятия, накидывал пальто, всовывал ноги в валенки, и бесшумно, подобно кошке, крался следом. На лестнице в бледном мерцании лампадки он видел сгорбленную длинноволосую тень Гироса. Затем Гирос исчезал, и тут из своей спальни выплывала Дася, сжимая пальцами виски, и отправлялась на кухню, и слышно было, как она гремит там кружкой и как расплескивается вода, и тогда Шилова вдруг охватывала жажда, но он возвращался к своей лежанке… Потом все это замирало, но спустя малое время повторялось заново.