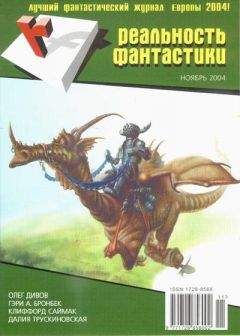Должен меж тем признаться, что не сумел, может быть, не успел в свое время оценить песни эти по достоинству. Были они для меня скорее лишь какой-то составной частью наших посиделок, чем-то по-своему талантливым, остроумным и рискованным, существовавшим как бы в придачу к основной жизни, той, что "днем". Днем - сценарий фильма "Государственный преступник" о наших доблестных чекистах, был у Галича и такой, а вечерами - "эти песенки". Что-то тут смущало.
Когда он пел про Колыму, меня передергивало. Вот за этим столиком, за бутылкой хорошего коньяка, в компании столичных интеллигентов, с пачкой "Мальборо" и - в замшевом пиджаке. Что-то здесь совсем не вязалось с телогрейкой зэка. Пиджак, вероятно. Мешал пиджак.
Да и интеллигенты, надо сказать, были хороши. Эти вот бородатые физики, что с некоторых пор повадились к нам на посиделки, хлебом их не корми - дай послушать крамолу,- днем они (опять же днем) благоразумно трудились в своих секретных "ящиках" и получали свои ордена за мирный и немирный атом.
Тут есть, конечно, предмет для спора. Я считал, что для прогресса, для общественного мнения, для движения от несвободы к свободе, в конце концов, такие легальные произведения, умные и честные, как, скажем, "Пять вечеров" или "Назначение" Володина, значат гораздо больше, чем запретные стихи и песни в узком кругу. И, конечно, шокировала двойная жизнь, вот это циничное использование профессии, к которой я и мои друзья относились, как к делу жизни.
И песни, и разговоры за рюмкой коньяка оказывались всего лишь антуражем, частью комфорта, если за них ничем не пожертвовано. Так это выглядело в то время.
Случилось иначе. От Галича в конце концов потребовали жертвы. Он не был к ней готов.
Однажды под Новый год я услышал по телефону его упавший голос: что-то случилось, он просил срочно к нему зайти - мы жили в соседних домах. "Ты ничего не знаешь?" - "Нет".
Оказывается, накануне его исключили из Союза писателей. Он рассказал мне подробно об этом судилище. Среди судей были, увы, Катаев и Арбузов. Последний имел зуб на Галича: тот где-то неосторожно высказался в его адрес. Арбузов не нашел лучшего места и времени, чтобы отплатить обидчику. Случается с нашим братом. Исключили единогласно. Галич выглядел растерянным. Он спрашивал: "Как ты думаешь, в Союзе кинематографистов меня оставят? Ведь там же у нас хорошие люди в руководстве, не то, что на улице Воровского..." Что я мог ему ответить?
Он не был диссидентом, он не хотел им быть. Его вполне устраивала та жизнь, что была. И то, что песни его вышли за пределы его круга, разошлись по городам и весям, было для него скорее фактом литературным, фактом признания, и это, конечно, льстило ему, а кто бы тут устоял. По его же версии, неприятности начались с того, что на свадьбе в одном московском доме кто-то поставил пленку с его, Галича, песнями, и папа невесты, член Политбюро, вознегодовал. А тут еще вышла где-то, кажется, в Сан-Франциско, книжечка с его текстами, да еще и с предисловием архиепископа, где сказано было, что автор - узник сталинских лагерей. Это почему-то особенно возмутило братьев писателей.
Жизнь, таким образом, сама разрешила наш давний негласный спор: за свое хобби, ставшее призванием, за песни свои и славу Александр Галич заплатил дорогую цену.
Он и в эмиграцию не хотел - его выталкивали, сначала лишив заработка, отгородив от общества, в котором он нуждался, как мало кто другой, а затем попросту предложив убраться в двухнедельный срок по израильской визе.
Песня, написанная им в изгнании - "Когда я вернусь" - переворачивает душу. Это, может быть, самое сильное, что им написано. Начиналось с шалостей в болшевских домиках; окончилось вот так...
С Шукшиным мы оказались в одном домике, красном, вдвоем. В тот год, 1970-й, если не ошибаюсь, я прожил в этом домике всю зиму, занимаясь бесконечными поправками к сценарию "Визит вежливости", который мы писали с Райзманом, и параллельно, тайком от Райзмана, делая что-то свое. Соседи в домике менялась. Сначала это были шахматисты - тогдашний чемпион мира Борис Спасский и с ним еще три гроссмейстера. Каким ветром их сюда занесло? Три гроссмейстера тренировали Спасского перед матчем с Фишером. Днем все четверо отсыпалась, а поближе к вечеру в маленьком холле у телевизора начинались игры, но играли почему-то не в шахматы - резались в карты, притом с изрядным шумом. Это был, как объяснил мне Спасский, бридж, игра, по его словам, более популярная в мире, чем шахматы. Я был, по-видимому, единственным киношником во всем Доме творчества, с кем они четверо по необходимости общались. Ни к популярным актерам и актрисам, которых они могли видеть в столовой, ни к фильмам, что показывали по вечерам, не проявлялось ни малейшего интереса. Я иногда звал их посмотреть кино, но тщетно. В иные вечера, вспомнив о своей миссии, садились они и за шахматы, сопровождая ходы присказками вроде: "А вот мы вам на это сделаем один ма-аленький шах" - совсем как какие-нибудь командировочные в купе поезда. Проигравший ставил бутылку, а когда и две, они выпивали вчетвером, предложив для приличия и мне, затем ложились спать - где-то уже в третьем часу, а то и позднее.
Спасский был из них самым контактным, мы иногда разговаривали. Своего будущего соперника он называл гением, особенно же ставил в заслугу Фишеру то, что с его приходом резко выросли шахматные гонорары. Однажды я задал интересовавший меня вопрос: что происходит с шахматистом с течением лет? Как отражается возраст? Ответ был занятный. С возрастом, сказал Спасский, силы естественно убывают, но это вполне компенсируется опытом, эрудицией, так что нельзя сказать, что человек играет хуже. Ослабевает - и это действительно сказывается на игре - воля к победе, ненависть к сопернику. "А! Ну и что!" - начинаешь думать с годами, появляется мудрость, и вот тут главная опасность и слабина.
Не знаю, что испытывал он в матче с Фишером, так скандально проигранном, но все время, следя за матчем, я вспоминал эти слова. Болел я, конечно же, за Спасского. Не помогло.
Шахматистов в красном домике сменил Шукшин. Он поселился в комнате напротив моей, третья оставалась пустой, в ней мы устраивали вечерние чаепития - чаще всего вдвоем, иногда с гостями, но без крепких напитков. "Это когда я еще пил",- говорил Шукшин, вспоминая какой-нибудь эпизод из прошлой жизни. "А знаешь, почему я бросил? Утром - стыдно..."
Занимался он в тот месяц "Степаном Разиным", давно написанным и уже однажды зарубленным в инстанциях; теперь вдруг забрезжила надежда: появился какой-то немец-продюсер, предложил выгодный контракт, Шукшина срочно вызвали к начальству и попросили расширить сценарий, сделав из двух серий три - такое условие поставил немец. Это оказалось трудным делом, Шукшин, по его словам, проклял всё на свете и уж сам был не рад, что взялся, но работал.
В то время не было еще "Калины красной", проза Шукшина только-только становилась известной; не знаю, существовали ли уже "Сапожки", "Жена мужа в Париж провожала" - этот рассказ я считаю гениальным, вообще прозу Шукшина, по видимости бесхитростно простую, на самом же деле глубокую и значительную; эти рассказы, в которых именно рассказано, отношу к высоким образцам искусства. В ту зиму, повторяю, зрелая проза Шукшина только начиналась, лучший фильм его был впереди, но Егор Прокудин из "Калины красной" уже существовал - русский человек, не купленный, злой, страдающий, в пространстве между брошенной деревней и чужим, неуютным городом пятиэтажек. Скоро он будет явлен и станет любовью миллионов близких по судьбе и духу людей, а сейчас он жил со мной по соседству.
За годы после смерти Шукшина кто только не писал воспоминаний о нем. Даже бывший наш министр Романов опубликовал свой мемуар в журнале "Искусство кино", где, в частности, рассказывает, какие поправки давал Шукшину и как тот болезненно на них реагировал (речь шла, помнится, о фильме "Ваш сын и брат"). Так что каждому, очевидно, есть что вспомнить. Я пишу сейчас эти странички в осторожной надежде добавить что-то свое, быть может, никем еще не рассказанное и неизвестное.
Он поразил меня страстностью натуры. Вечерами, как все нормальные люди в Болшеве, мы крутили "Спидолу", слушали "голоса". Без комментариев не обходилось. Но что интересно: в его отношении к властям не было интеллигентского брюзжания, свойственного всем нам - кому в большей степени, кому в меньшей. Он не брюзжал, не насмешничал - он ненавидел. Были три объекта ненависти, три предмета, по поводу которых, если заходил разговор, он не мог рассуждать спокойно: это, во-первых, разумеется, колхозы, во-вторых, чекисты, и в-третьих, как ни странно, великий пролетарский писатель Максим Горький. "Ну что уж ты так к нему прицепился",- заметил я однажды. И услышал в ответ: "Это он, сука такая, внушил Сталину, что крестьянство - слепая стихия, которую надо укротить". Не знаю, где он это вычитал, но был в этом уверен, крестьянство же, судьба крестьянства была его непреходящей болью, но это, наверное, факт общеизвестный.