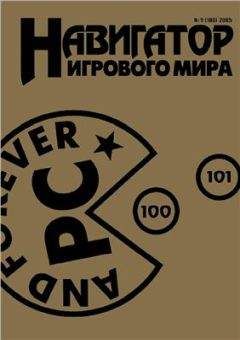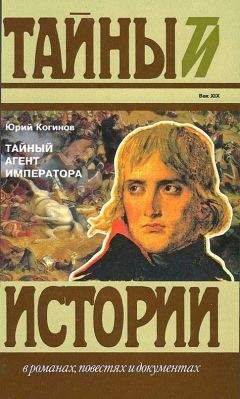Между тем, еще при объяснении, которое Прасковья Петровна имела с мужем, сообразила она необходимость разуверить его в своей слабости к французу. Теперь эта мысль внушила ей целый ряд аксиом: первая состояла в том, что, хоть она совершенно бесстрастна, не менее того любит своего мужа. Сознаюсь, я подозреваю — не было ли это сознанием безотчетной привычки, или скорее то отсутствие отвращения, которое она принимала за любовь. Вторая аксиома была: если оставить мужа убежденным в чем- то таком между нею и генералом, то как бы ни была согласна их будущая жизнь, память этого происшествия будет всегда отравлять чувства Петра Петровича грустью. Ничто на свете не может изгладить того, что однажды было. Третья аксиома та, что люди, в особенности мужья, всегда готовы убедиться в том, чего желают. Заключением всего: надо непременно удостоверить Петра Петровича и притом единственно для его же спокойствия, что у ней не было ничего такого с генералом.
Рано поутру Прасковья Петровна поехала к обедне, оттуда в монастырь отслужить молебен, потом сделала несколько визитов, потом отобедала у своей матушки, потом приехала домой и легла уснуть, не приказывая себя будить.
Петр Петрович с нетерпением желал видеться с женою, постараться еще повыведать кое-какие подробности о том, что он грубо называл «связью», похвастать, что покинул цыганку, и, если найдет, к чему придраться, побраниться и опять объявить свое намерение расстаться. Несколько раз он приходил на ее половину, но получал в ответ, то — дома нет, то изволят почивать.
Прасковья Петровна слышала, как в последний раз он спрашивал у субретки, можно ли видеть барыню, и получил отказ. Она была очень довольна и сказала про себя: «Слава богу!» И правда: дело уже слажено, коль скоро муж сам идет к жене. Но еще было светло: подождать вечера выгоднее. Смерклось. Прасковья Петровна встала, приказала никого не пускать и отправилась в уборную. С удивительным кокетством примеряла она разные фальшивые букли; наконец надела одни, почти распущенные, которые всего более придавали вид грусти, тоски, нездоровья.
Затем надела самый простой чепчик с маленькою кружевною оборочкой и широкими распущенными лентами. Это было необходимо, чтобы виделись сережки, подаренные мужем на другое утро замужества, при словах: «Вот тебе, в память твоей покойной невинности». В заключение Прасковья Петровна обулась с большим вниманием; на полукорсет надела ослепительной белизны юбку, весьма невысоко покрывавшую грудь и обшитую вверху узеньким кружевцем; сверху надела белый пеньюар с широкими рукавами и расходящимися полами; подошла к зеркалу и улыбнулась с самодовольством: в самом деле, она была восхитительна, так и растравливала желания при помощи прелестного, изящного кокетства.
Приказав зажечь лампу с матовым стеклом, висевшую посередине будуара, она пошла в этот полусвет, легла на кушетку, обитую темным бархатом, и поправила платье, так, чтобы ножки едва проглядывали из-под юбки и манили желание видеть еще более прекрасную обувь. Разумеется, платок, непременная принадлежность женщины, готовящейся разыграть семейную драму, не был забыт. Прасковья Петровна взяла книгу, не знаю какую. Ручаюсь, однако ж, что это не был ни Жилблаз, ни Фоблас и ничто подобное. Но она не читала: она ждала. Кого? Разумеется, мужа. Какой вздор!— скажете вы: оскорбленный супруг, целый день, не достучавшись у дверей жены, когда пора ему по обыкновению ехать со двора, придет ли выслушивать, как субретка выпроваживает его словами: «Изволят почивать»?
Ну, а я буду иметь честь вам доложить, что вы не знаете Петра Петровича и ему подобных. Да-с! Придет, уверяю вас, придет!.. И в самом деле, послышались шаги. Прасковья Петровна вздрогнула. Всякий из нас испытал, что такое ждать и опасаться, что ждешь, быть может, тщетно. Как прислушиваешься к малейшему шороху, не переводишь духу, от нетерпения досадуешь, и вдруг поневоле вздрогнешь, когда ясно послышится, что ожидаемое лицо идет. Таковы были чувства, волновавшие Прасковью Петровну когда за дверью раздался голос, который спрашивал, можно ли войти. На ответ—«Можно»—Петр Петрович явился во фраке со шляпою в руках. Прасковья Петровна позвонила, приказала вошедшему официанту подать кресло, сделала мужу знак сесть и спросила, не хочет ли он чаю... Вслед за тем отправила официанта за чаем.
Петр Петрович с удивлением смотрел на жену: он не помнил, чтобы когда-нибудь она была так увлекательна, так прелестна. И неудивительно: тогда в первый раз она старалась увлечь, прельстить его! Все враждебные замыслы пропали, и он начал:
— Ну, Прасковья Петровна, я исполнил твою волю, разошелся с Ольгой,
— Надолго ли? —печально и лениво спросила его жена.
— Навсегда.
— А кто ее заменит?
— Никто на свете, поверь мне.
— Нет, не верю.
Петр Петрович поспешно возразил:
— Ты на меня сердишься?, прости меня! — И хотел взять милую ручку. Но Прасковья Петровна презрительно оторвала ее и сказала:
— Я прошу вас не дотрагиваться до меня; вам, верно, очень забавно, проведя ночь в оскверненных объятиях цыганки, приехать домой и пожать руку жены. Но знайте, что это не по моему вкусу... я этого не позволю!
Послышались шаги официанта, несшего чай. Оба замолкли. Покуда слуга был тут, Прасковья Петровна жаловалась на головную боль, на бессонницу, на усталость и так далее. Петр Петрович имел время обдумать и вспомнил, что у него есть оружие, которым может принудить жену заключить мир. Только он не вдруг решился, как начать нападение. Наконец, когда понесли пустые чашки и официант удалился, он начал:
— Какую славную игрушку ты подарила Александру! Он от нее в восхищении. Что тебе вздумалось сделать ему этот подарок?
Прасковья Петровна с явным негодованием и нетерпением отвечала:
— Оттого, что я была им довольна.
— Я не понял, что он мне сказал!
Бросив сердитый взор на мужа, Прасковья Петровна спросила:
— А что он тебе говорил?
— Александр пробормотал мне, что он получил игрушку за исполнение маменькиного приказания, то есть за то, что рассказал мне историю о кабинете.
— И он это тебе смел пересказать! — вскричала гневно Прасковья Петровна, протягивая руку к колокольчику, но Петр Петрович успел его взять и спросил: '
— Что ты хочешь?
— Велеть позвать Александра и перед тобою же его наказать, чтобы он знал исполнять и хранить поверенную себе тайну! Я должна быть еще строже с ним, потому что ты, распутный муж, покинувший свою жену, хочешь развратить еще и сына. - Тут слезы полились, и пошла работа платком. Между тем она продолжала: - Поручая ему надзор за мною, ты не понимаешь, что через твои глупые расспросы отымаешь первую добродетель у твоего сына - уважение к матери! За этим, разумеется, последует презрение, потом ненависть к самому тебе. Отдай колокольчик или сам позвони!
— Нет, Прасковья Петровна, прости, на коленях тебя прошу, прости Александра!
Тут Пётр Петрович стал на колени.
— Верно, цыганка и выучила тебя так унижаться. Знай же, что я твоя жена и подобный образ мольбы меня оскорбляет.
Пристыженный Петр Петрович встал; на уме его было уйти, но.... невозможно!.. Жена так хороша! Надо хоть поцеловать ее. Он уселся и, подумав, спросил:
— Сделай милость! Объясни мне причину твоего подарка Александру.
— Ступай к своей цыганке!.. Она должна быть ворожея, тебе всю правду скажет.
Петр Петрович стал молить прощения, клянясь, что никогда не впадет опять в искушение. Наконец он опять решился взять ту же ручку. Ему не дали, но без гнева и ничего не сказав. Ободренный этим, он возобновил свои обещания и просьбы, в третий раз потянулся за рукою, поймал ее и в восторге спросил:
— Ты прощаешь мне? Ты более не сердишься?
Прасковья Петровна с недоверчивостью возразила:
— Могу ли верить твоим словам? Ты раз уже клялся перед алтарем сохранить мне свою верность. Хорошо исполнил свой обет!
— Право, не изменю более! Буду верен! Испытай раз еще, в последний раз!
— А сына будешь ли развращать?
— Никогда, право, никогда!
— Будешь ли у него расспрашивать о матери?., а?
— Никогда, ни слова, поверь мне!.. Право, прости меня!.. Прошу, прости!..—говорил тронутый Петр Петрович.
Прасковья Петровна отвечала важно:
— Успокойся и выслушай! Прежде чем простить, я все выскажу, чтобы ты видел, сколько виноват передо мной. Знай же, все, что рассказал тебе Александр, было нарочно сочинено мною. В самом деле, если бы я действительно имела, как ты по-цыгански говоришь, связь, как можно думать, чтобы я была до того глупа и неосторожна, чтоб мой сын, ребенок, ее открыл? Правда, генерал за мною очень ухаживал, но я тебе ничего не говорила, потому что он объявил мне: если ему откажут от дома, он тебя вызовет на поединок. Третьего дня он уже решился ехать: поэтому я приказала Александру рассказать тебе все, что ты от него слышал. А был он наказан за ослушание: генерал выдрал ему уши за то, что он ударил его, думая заступаться за меня, горемычную: связей у меня с французами и ни с кем на свете не было и не будет. Я употребила этот вымысел, чтобы возвратить тебя к супружеской жизни, зная, что ни слезы, ни упреки на тебя бы не подействовали; мне же становилось невмочь терпеть твою измену. Вот тебе вся правда.