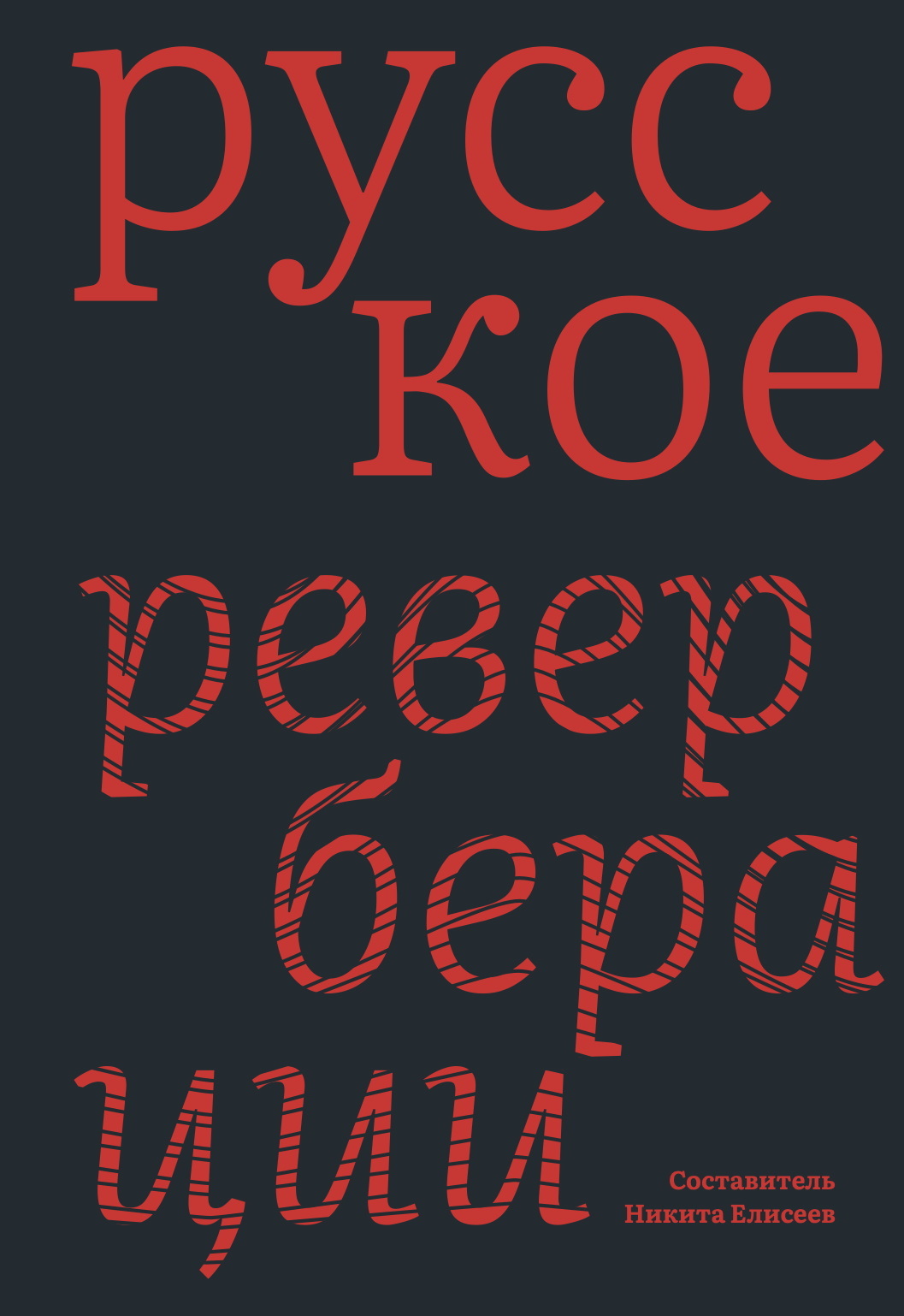А у вас тут нормально, – он огляделся внимательней. – Терпимо, не как в парилке.
– Это здесь-то терпимо? – Ларек засмеялся.
– Меня держали в «ноль-восемь» в подвале, рядом с баней. По хате труба сотка, что в баню жар гонит, – не дотронуться… Душегубка.
– Вот сволочи, – не сдержался Голуба, – а зимой в «ноль-один» бросают, где окна во двор, так там лед на полу…
Вадима эти слова не трогали: лед на полу представлялся сейчас недостижимым блаженством, а в то, что может быть жарче, чем здесь вот, раскаленный мозг поверить не мог.
– Ну так расскажи, Веселый, – не утерпел Ларек.
– Отстань от человека, – осадил Голуба.
– Так что там рассказывать… – Нрав новичка, из-за которого он, видимо, и получил свое имя, побеждал его недавние беды, и он ухмыляясь оглядел аудиторию. – Взяли меня, как щенка; я в дачу одного торгаша вломился, а там баба его со своим хахалем. Эта дура такой визг произвела, что с соседней дачи сбежались. Хахаль ее – малый, видно, тертый – смылся, а я от визгу сплоховал – меня и зацепили. Потом эта баба и сама не рада была – мужик-то узнал, из-за чего она на даче вдруг оказалась… Так вот, начали меня менты крутить, а за мной ничего больше. Тут мой следак и подкатил: тебе, говорит, все одно пятерик, так давай еще парочку хат возьмешь – тот же пятерик, зато будешь под следствием, как кот в масле; и я согласился, только изо всех висящих на нем хат выбрал три поскромнее. Жил я, мужики, три месяца – и воли не надо: передачи каждый день в его кабинете принимаю, даже с бабой моей свиданки мне в кабинете устраивал да выпивку сам приносил несколько раз. У нас в хате без фильтра и не курили уже, а чай так выбирали: плиточный не парили… Дайка еще одну. – Он прикурил у Берета. – Ну а на суде я им и выдал. Прокурор требует андроп, а я в последнем слове и говорю, невиновен, мол; это вот все, за что гражданин прокурор меня призывает каленым железом изничтожить, мы со следователем в его кабинете и совершили, так его и судите – он же меня уговорил за выпивку, а если не верите, говорю, то запросите справочку – я в то время, как кто-то хаты брал, в ЛТП находился на излечении. Ну тут такое началось… Дело на переследование, следака другого, а мне кости каждый день ломать киянками. Ну а новый суд вмазал мне тот же андроп, но уже за одну мою дачу…
– А следователь тот?
– А что ему сделается? Работает себе… Меня вот до сих пор прессуют – пережить не могут, что я против ихнего пошел. Сюда вели – я думал, в пресс-хату бросят…
– Ларек, – Пеца встал, заканчивая разговор, – у тебя там местечко… Подвинься – человеку отдохнуть надо.
– А что – можно спать днем? – радостно удивился Веселый.
– Нельзя, конечно, – засмеялся Голуба, – но здесь нас так понатыкали, что кто там углядит, спишь ты или не спишь.
Ларек что-то передвигал у себя наверху, а Веселый тем временем раздевался, внимательно проглядывая швы изодранной своей одежды.
– Вши есть в хате?
– А как же, – засмеялся опять Голуба. – Куда ж они денутся?
– В хате неважно, лишь бы на тебе не было, – добавил Берет.
Новичок, глянув вскользь на Вадима, забрался на шконку. Они там долго пристраивались, пытаясь сначала уложить еще и тот матрац, который Веселый принес с собой, но потом скинули его чуть не на голову Вадиму («Задвинь под шконку», – свесился Ларек) и скоро затихли.
– А у меня знаешь, как было? – начал громко шептать Ларек, не в силах упустить человека, который еще не слышал его историю.
– Ларек, имей совесть, – окликнул его Голуба.
– Да ничего, ничего, – отозвался Веселый, – я – нормально.
– Иду я от своей телки, – задыхаясь давним волнением, шептал Ларек, – поругались мы с ней, значит…
– Не дала она ему, – перебил Ворона. – Малый, говорит, ты да слюнявый – телок, одним словом.
– Не-е, про слюнявый не говорила, – поправил Ларек, – а и не дала. Ну, значит, иду я, и такая злость, такая злость… А я в то время и не пил еще…
Вадим все не мог никак пристроиться поудобнее. От вида, как Веселый искурил подряд три полные сигареты, докручивая каждую в бумажку, чтобы уже ни крошки табаку не пропало зря, в Вадиме опять поднялась с трудом заглушенная беспокойная страсть курильщика. Он с надеждой взглянул на Матвеича, но тот читал, а ни у кого больше Вадим не мог решиться попросить хоть окурочек. Его раздувающиеся ноздри улавливали табачный дух: кто-то курил у окна, и он тянул, втягивал ноздрями этот дразнящий запах, растравляя себя еще больше.
– …Вот сижу я, значит, в ларьке этом, – продолжал незадачливый взломщик, – хлебаю коньяк, а сижу на полу, чтобы с улицы не видно, – он же сияет весь, как фонарь. Коньяк мне и не понравился совсем, а шоколад уплетаю о-го-го, но и шуршит он, гадюка, будто по железной крыше кто топает, – я уж как тихо ни стараюсь, все равно гремит. Шибанул меня коньяк крепенько – все соображаю, а встать не могу, ноги ватные, но чую, что пора сматываться. Тут как раз мент этот и подтарахтел на своем мотоцикле под самый ларек. Слышу – кряхтит и выползает, снег иод ним шуршит, а он, значит, за ларек шагает – хрум-хрум, ну а у меня тут и засосало не вовремя: смех да и только. Мне бы рвануть и – дворами, а у меня ноги ватные и брюхо скрутило – я и корчусь. А мент-то остановился отлить, да углядел дыру и лезет туда башкой своей. Представляешь цирк: вижу, прямо к носу мне репа его краснощекая суется, да со свистком во рту, а глаза от удивления выскочить готовы. Тут я его, значит, этой коньячной бутылкой и огрел прямо по темечку (эксперт на суде говорил, что запросто мог и дух вышибить – репа крепкая оказалась), так вот, звезданул я его, а он дух не испустил, чтобы совсем, а так испустил, что в свисток духнул, да резко так – зараза, духнул… Ну и, значит, услышали… Теперь вот – андроп…
Веселый никак не реагировал на рассказ соседа и, скорее всего, уже и не слышал, а спал, радуясь, что получил передышку в своих мытарствах.
Теперь и с другой стороны доплыл до Вадима табачный дым, и он сразу же вывернулся туда. Матвеич не читал – книга лежала возле, – а курил и тихо разговаривал с забравшимся к нему