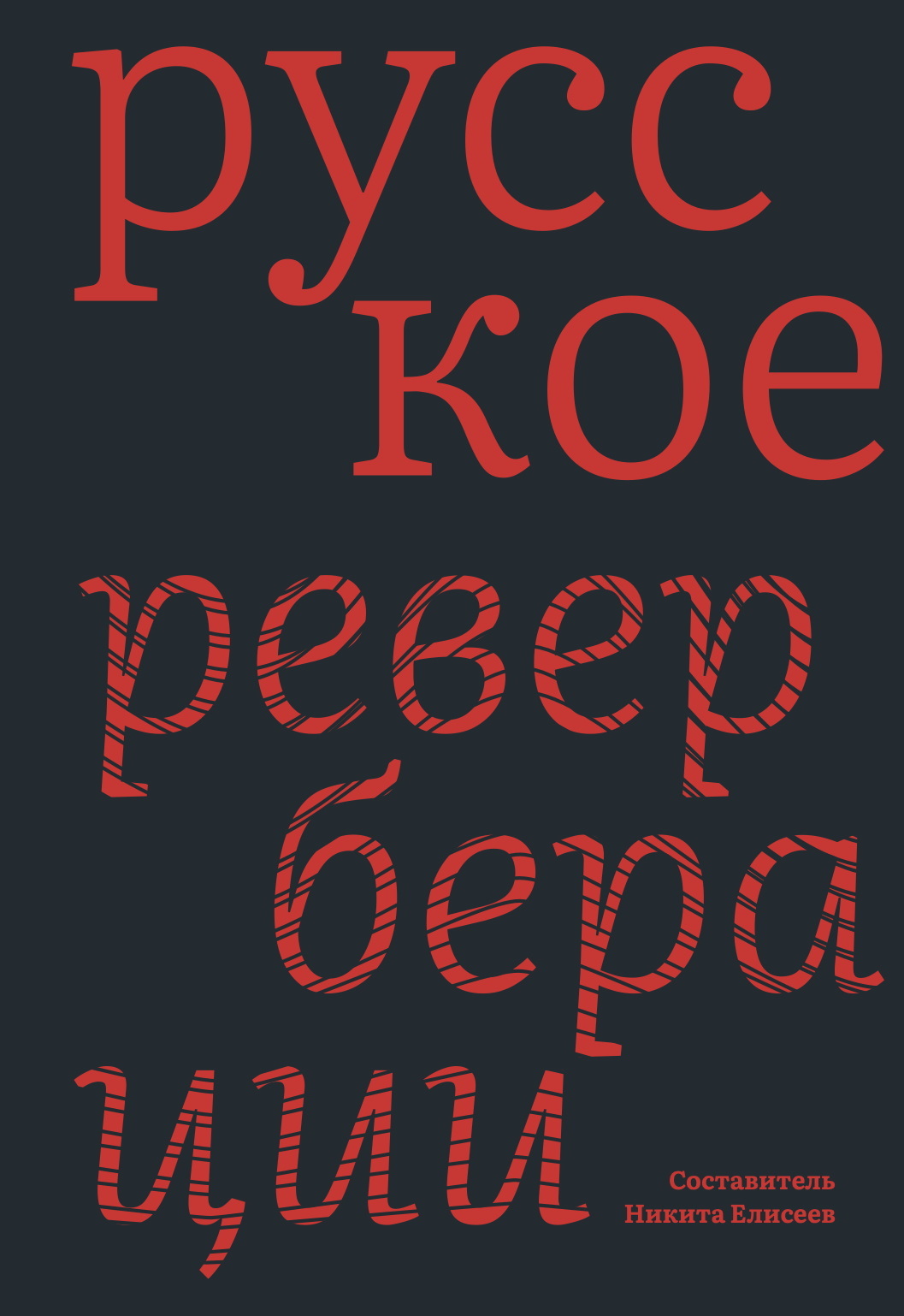в нем, вытаскивая за собой бесшабашную злость и выплескиваясь в безоглядной дерзости.
– Не прав ты, Матвеич, – хрипло бросил Вадим туда наверх, где сразу умолкли голоса.
– И в чем это я не прав, Саламандра? – повернул к Вадиму голову Матвеич.
– А во всем. Нормальная тут жизнь, обычная жизнь. Не хуже, чем в клетке в зоопарке. Видел в зоопарке? Вот курева бы еще…
– Держи. – Матвеич сбросил сигарету, и Вадим ловко подхватил ее и заоглядывался по сторонам, где бы прикурить.
– Спички у вас там в зоопарке имеются? – спросил Голуба, бросая вниз коробок.
– Саламандра, покурим, – углядел Ворона.
– Не-а, Ворона, не покурим, – Вадим, прикрыв глаза, разминал сигарету – теперь вот спешить не хотелось, – курим уже. Вдвоем мы тут.
– С кем это вдвоем? – не отступал Ворона.
– Вадиму оставляю. Неплохой мужик, а без курева пропадает совсем.
– Ну дает, – протянул сверху Голуба. – Высший пилотаж. Спички гони, Саламандра, – и обернувшись к Вороне: – Не тронь его – пусть покурит в охотку.
И все. И забыл Вадим обо всем, недосягаем стал, ушел, улизнул ото всех бед и горестей, растворился в этом сизом дымке, в сладостной его горечи, поплыл, поплыл вместе с ним, огибая все жесткие углы сумасшедшего этого мира. Но и дым даже не в силах улизнуть из наглухо забитой железом клетки – потыкается по углам и осядет вместе с вонью в том же проходе…
Нет, невозможно из себя выпрыгнуть: всегда донимала Вадима эта вечная его неудовлетворенность, неспособность отдаться целиком уже добытой радости – всегда вспоминалось тут же что-то недостающее, отравляющее каждую минуту жизни суетливой гонкой и нетерпением. И сейчас вот, уже на третьей затяжке, Вадим обеспокоенно ощупал, на месте ли пайка, и пожелел, что сахар весь съел сразу, и пить захотелось, и ощутил, что пора бы уже на толкан сходить, – это вот, последнее, было неприятнее всего… А если на толкан, то, может, загасить сигаретку, припрятать на потом? Но потом, может, опять повезет стрельнуть, а если припрячешь, то и не стрельнешь – какое уж тут наслаждение в этой раздергивающей на части суетливой обеспокоенности, как сделать так, чтобы непременно сделать лучше лучшего?..
– Мужики! Мужики! – пробился растерянный голос дежурного. – Толкан забит… Делать-то чего будем?
– Какая пы-паскуда пы-пы-паследняя на толкане была? – заревел Пеца.
– Так он тебе сейчас и скажет, – перегнулся Голуба.
Все зашевелились, и камера наполнилась равномерным гомонящим гулом. Общая беда не оставляла равнодушных, а Вадим был готов расплакаться от своего личного невезения: все, упустул время – теперь ходу на толкан не было.
– Тарабань, чего застыл? – прикрикнул на дежурного Берет и, обращаясь ко всем: – Шумим, мужики, но по приходу ментов – не базарить: пусть Матвеич один говорит. Только пошумливать вместе, а в базар не встревать, а то снова, кроме лишних мучений, ни черта не будет…
– Да хоть двери открытые подержат, пока разборки наведут, освежимся – и уже хорошо, – успокоительно добавил Голуба.
А успокоительное слово было необходимо. Шумнуть – это не одно только развлечение в затхлой арестантской жизни, это и опасность наказания: будь ты хоть тысячу раз прав, но, по их мнению, ты не прав потому, что ты – здесь; не прав потому, что ты – мразь; не прав потому, что если ты прав, то, значит, не прав кто-то из них, а это невозможно: против тебя они заодно – единым чудищем тянутся к твоей глотке… И есть у тебя одно издевательское право: подать жалобу от себя лично в установленном порядке – вот и напиши, хоть в Москву, что у тебя есть просьба почистить толкан, а когда вопрос твой решат и если ты к тому времени с ума не сойдешь, то узнаешь ты, мразь вонючая, что толкан ты забил нарочно, противодействуя работе администрации созданием угрозы инфекционных заболеваний, и тогда уж – держись, мразь… Ну а всякие попытки подать устную жалобу – это чаще всего незамедлительное «держись, мразь», да еще и усиленное неостывшим справедливым негодованием оскорбленных в лучших чувствах защитников отчизны…
Все это на зверином уровне, не упаковывая в слова, ощущал любой из арестантов в разной степени, боясь возможных последствий или радуясь неожиданному разнообразию, – все в зависимости от способностей фантазии, от умения представить более или менее отдаленное будущее и от привычки жить, забирая все свое немедля или проживая сегодняшний день с учетом и следующих. А у Вадима сейчас не было ни фантазии, ни опасений – только нетерпение, да с подхлестом резкой боли в брюхе, крутящей его волчком… Ну можно ли быть таким невезучим?..
Дежурный размеренно колотил в кормушку, и монотонный равномерный лязг заполнял пространство камеры, больно тыкаясь в уши, даже изменяя биение сердца, которое подстраивалось под этот грохот.
Наконец лязгнула, приоткрываясь, кормушка, и дежурный, присев на карточки, взмолил в узкий просвет:
– Командир, ассенизатора пришли – толкан забит.
Несколько слов, серых, без интонаций даже, расслышать нельзя было, но дежурный завопил тут же в захлопывающую щель:
– Козлы вонючие! Волки! Менты поганые! Ассенизатора давай, педерасты!..
Вопль взвился взрывной яростью к потолку и завис там бесполезно.
– Чего он сказал? – спросил Берет. – Пришлет?
– Сказал, что ему на…ть… Что он еще скажет?
– Начальника требуем, – не предложил даже, а решил Матвеич.
– Начали, – кивнул Пеца.
И началось.
Несколько человек подскочили к двери и вместе с дежурным в азарте колотились в железную ее обшивку; неразборчивые крики, ругань, резкий свист – в клочья раздиралась смрадная пелена, затянувшая камеру, и разодранные лохмотья кружили в поднятом невероятном шквальном вое. Шум этот не утихал, а все держался на невозможном каком-то уровне, и отдельные голоса, свисты, вопли были неразличимы в нем. Шум этот вселял в тело азарт жизни и движения: каждый ощущал чуть ли не гордость оттого, что он частичка этого грозного шквала. Грохотало уже и в других местах по продолу – это соседние камеры, не зная еще, что происходит, поддерживали веселым гомоном протестующую «девять-восемь».
Лязга кормушки не слышно было, но оттуда потянуло свежим воздухом, и шум утих, не исчезая полностью, а живя еще глуховатым ропотом в углах камеры.
Из кормушки торчали две головы и кое-как умещались три погона: два – с красной полосой вдоль, а один – чистый, видно, дубак позвал старшего коридорного, однако разобрать, к какому погону приставлена какая голова, в тесноте кормушки не было никакой возможности.
– А ну, прекратить шум, – выбросила одна голова.
«Начальника зови! Начальника! Жаловаться будем!» – в несколько голосов дыхнуло из камеры. «Прокурору жаловаться будем… начальнику», – вразнобой летело из углов.
– Долбал я начальника, – выплюнула белобрысая голова.
– Долбал я вашего прокурора, – поддержала чернявая и,