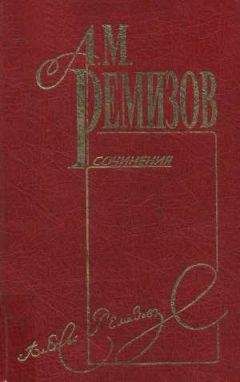Это говорю я со слов Корнетова. Вы, конечно, знаете, Корнетов переехал на новую квартиру – и больше вы его не найдете в сумрачном Отэй43.
Теперь Корнетов – на этом берегу в самом холодном Париже, что и называется «Гласьер» – и есть такая лавочка на Гобелен, где продается лед: «не тает», франк кило – «Ледник», где на бульварах платаны распускаются по-московскому с липами на Садовой и стоят зеленые до Михайлова дня, когда где-нибудь на Сен-Жермене или в Тюльери выжженные солнцем и выдымленные автомобилями одни голые черные сучья. Поздняя весна! Но зато из окна не одни залитые белым огнем заводы и серая громоздь домов, а поверх труб и тесно прижавшихся стен и совсем неожиданно и к великому удивлению, как воспоминание из детских годов, невероятно – звезды! и такая ходит луна, все уголки комнаты высвечены – вот какой слой лунной зелени – и если не завесить окна теплым платком, просто деваться некуда, а о сне и думать нечего, но и жарит солнце – юго-восток – с полдня до вечера.
Когда пришел срок к переезду, все мы, постоянные воскресные посетители, временно как бы пропали. Всем известно, как не любит Корнетов, когда ему мешают, а переезд на другую квартиру, по себе знаю, дело очень мудреное, тут и поднять надо и передвинуть и денег нет, вы понимаете? Все мы, и не сговариваясь, решили, что лучше не мешать, а когда устроится, в одно из воскресений и нагрянем справлять новоселье.
А ведь хорошее место выбрал себе Корнетов: на этой стороне и воздуху больше, и светлее солнце, и проще – тут никакими «Климатами»44 не завлечешь, ну никаких и гранатных яблок не достать – всем там, в XVI-ом, но зато на Муфтаре вы найдете все в готовом, только разогреть, – и картошка, и капуста, и спаржа, и горошек, и артишок, и бульон, чего хотите.
Горе ему с автобусами. Да не сами автобусы – автобусы самое легкое и приятное передвижение, – а подход, чтобы вскочить. Три автобуса в вашем распоряжении: H, U, U-bis. На U и U-bis с закрытыми глазами и в любой час вскочишь, а в H – стоит под носом, а не сунешься – такси шныряют и скачут безо всякой, попробуйте перейти, а главное никак не наметишься: эти и Uзагораживают. Хорошо еще, что Корнетов не ездок… впрочем, все равно, всякое утро вы можете увидеть его на Араго, высматривающим из-за U– вид, я бы сказал, замышляющего террористический акт: метит перебежать на ту сторону, чтобы потом от «Голубого циферблата» – на Гобелен, а там, перепрыгнув по трамвайным островкам, попасть в угловое бистро «Шкалик».
Здраво рассуждая, Корнетову следовало бы сразу купить себе на неделю свою порцию «синих», а не репетировать «покушение», тем более, что по своему мирному складу… «премию мира» не зря получил! такая героическая тренировка ему ни к чему, но я понимаю… освободи его от папирос, и уж он из дому ни на шаг.
Дом найти немыслимо: № прикреплен не над дверью, где его обыкновенно смотрят, а висит на балконной решетке на первом этаже, а задирать голову не всякий догадается.
Профессор математики Сушилов, впрочем, давно забросивший свою математику – чего ему с ней в городе математиков! – а в качестве репетитора преподававший русский и латынь, уча без всяких наставительных «ключей» хорошему тону и изысканным манерам, Сушилов не раз подступал к самой двери – нет №-а! То же и африканский доктор, получивший славу африканского за свой дикий экваториальный год, и больше не практикующий – Париж не Дагомея! – безнадежно шарил глазами под дверью – нет №-а! Пока кто-то из «проникновенных» не предупредил, что Корнетов там – где кинематограф45, а никакого №-а искать не надо.
Но если вы, ни на что не обращая внимания и вопреки всем правилам, установленным о домовых №№-х, нашли и попали в дом, вы подымаетесь по узкой, где-нибудь в Москве или в Петербурге немыслимой, такой узкой лестнице, начищенной в «тримэстр»46 – ко дню платить за квартиру и под праздник такой едкой восковой смесью, от которой, еще при перестройке заведенные в доме, неистребимые синие навозные мухи, без всякой липкой бумажки помаленьку дохнут, а у человека с воли такая вдруг жгучая жажда, точно только что пообедал в русской столовой, вы подымаетесь мимо прижавшихся к стене покорно и как-то робко (внизу кинематограф!) уступающих вам дорогу. Музыка гремит цирковой задорный марш или наскакивающий фокстрот или такую выводит захватывающую гренадину – лестница, как подъемная в метро, катится ступенями вам под ноги и тащит вверх без всякого вашего усилия и даже без желания, и ни о каком лифте вы не спохватитесь, хотя бы лезть вам на самый последний.
А лифт есть и начало берет не с земли, как это принято, а от консьержа, у которого под носом неугасимо что-то вроде папиросы, выпыхивающей несоразмерно густые клубы сизого дыма, – как в облако вы входите в кабинку. Только не трогайте последнюю кнопку: предельный подъем шестой! – вас-то и выше дотянет, но потом так упрется, так крепко и вниз никак, а ведь монтер не только этот лифт исправляет, а и у всех соседей – какой же это в Париже лифт без «пана», или, по-русски, г…о! Спокойней и вернее подыматься до пятого – для предосторожности все-таки, нажав кнопку, не отпускайте ее до второго, а потом можете отпустить руку, а то случалось, что с первого же вздрыга и – застрянет; так застрял Балдахал со своим «Русским стилем» – книгой, изданной в количестве ста экземпляров по подписке и не нашедшей ни одного подписчика! – но, как бывший историк-педагог, здесь устроившийся гарсоном в химической лаборатории, Балдахал нашелся: с остервенением надавил кнопку и, не сводя глаз с пальца, как ни в чем, поднялся.
День на день не приходится, и если с музыкой вас охватит гарью и глаза щиплет, не обращайте внимания, ничего опасного: это отопление в кинематографе. Как затопят камин – весь дым на лестницу и по всем этажам – двери щелястые, «Les Nouvelles Littéraires»47 пролезет, а письмо подсунешь, как в ящик – во всех квартирах стоит дым коромыслом и так все разбегаются – пожар! – как крысы на новой стройке, когда фундамент подводят. Но, говорят, что это совсем не вредно, только неприятно и в носу щекочет. Почтальон, разносящий деньги, предусмотрительно в противодымной маске даже и когда никаким дымом не пахнет, но позвольте вас уверить, что все это неправда, просто такое у него от природы, и обзаводиться маской не стоит.
Так под музыку легко и весело вы попадаете к Корнетову.
И первое – тепло: и в самый сибирский мороз, какой лютовал эту зиму в бесснежной Европе, только двумя теплыми платками закутывался Корнетов поверх двух свитеров и нательной шведской фуфайки, и на голову вывезенную из России расшитую шелками самаркандскую тюбетейку, и все, кто ни побывал у него за эту зиму, говорили, что против других домов чувствуешь себя, как в бане.
Шкинев и Паняев, инженеры, наконец-то устроившиеся на вокзале мыть вагоны, объясняли такую температуру не столько площадью радиаторов, сколько необыкновенной даже для теперешней послевоенной стройки тонкостью стен – «явление тепловой диффузии, говорили, локатер локатера греет»! Этот закон диффузии почувствовался куда острее, когда в апреле с прекращением центральной топки «локатер» превратился в ледышку.
А, что стены по тонкости беспримерные, это верно: слышишь, как у соседей щелкает выключатель и еще какой-то звук, хотя нигде ничего не строится, а все точно тес отдирают: днем – ничего, в водопроводе швыряет и выпрыгивает куда зловещее, но если ночью, этот звук можно еще сравнить с первой весенней грозой. Впрочем, к звукам легко привыкаешь, а при таком наплыве – трамвай, автомобили, водопровод и этот «отдирают» – они превращаются в шум, а шум, что серый цвет, никакого впечатления – пустое место.
Везде принято, как всем известно, ложиться в десять, по крайней мере с этого часа не кричать, не топать и не прибивай гвоздей, а у Корнетова, как правило, спать только с двенадцати, по окончании кинематографа: и не потому, что музыка – под музыку и спится крепче, и сон легкий, и притом музыка не до небес, верхам не слыхать, только звонок на переменах, но звонок, хотя по природе сгонщик, но и через картонные стены тон его мягкий, никак не напоминает будильник – нет, для безопаски.
В первые недели, когда контракт был подписан и заселились все квартиры, консьерж, обходя «локатеров» и несоразмерно выдыхая дым, – тогда-то Корнетов и заметил этот его неугасимый огонек, – невозмутимо и как-то иронически заявлял каждому, что в доме жить очень опасно:
«Кинематограф!»
«Когда же это можно ожидать?» – справлялся всякий, делая вид невозмутимый.
«Когда идет представление», – тлел, дымя, огонек.
«А когда оканчивается?»
«В двенадцать», – пыхало дымом.
И хотя вскоре появился агент страхового общества и всякий застраховал свое имущество от огня и застраховал соседей, переплатив в шестьдесят раз за риск – «кинематограф!» – время сна нисколько не передвинулось к нормальному и осталось, как правило, полночь. И как бы другой раз ни манило, если кто и ляжет, а заснуть – все равно, сон не придет. Первое время даже избегали выходить до двенадцати, а караулили дома, ожидая пожара, когда начнется.