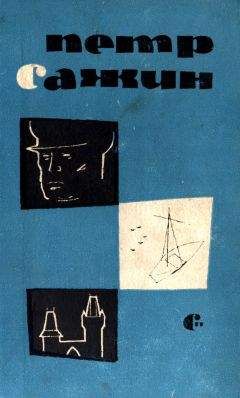Когда подошло к часу ночи, Ляля сильно заволновалась:
- Где же Николай Демьянович? А вдруг несчастье?
- Коля приедет, - твердо обещал Александр Васильевич. - Приедет обязательно.
- Но я вас замучила!
- Обо мне не беспокойтесь, ночами как раз не сплю, работаю. А зеваю это сердечное, мотор стучит. Значит, нужно принять. - Он вынул из кармана стеклянную трубочку, высыпал на ладонь несколько крохотных красных шариков.
- Принести воды?
- Пожалуйста. Если не затруднит...
Она побежала на кухню, зажгла свет, кухня оказалась огромной комнатой, вроде столовой - за занавеской кто-то храпел, - налила в чашку остывшую воду из чайника. Александр Васильевич лежал на диване, полузакрыв глаза. Лицо его, недавно румяное от вина, стало бледно, осунулось. Все это было как-то нехорошо. Приняв лекарство, он взял Лялину руку.
- Не уходите, Людмила Петровна.
- Я не ухожу, - сказала Ляля. Сама подумала: "Куда ж уходить? Второй час. На метро опоздала. И он какой-то плохой, и там - Гриша..."
- Сядьте ближе, рядом. Вот так. Здесь, пожалуйста... - Не отпускал ее руку, держал крепко. Было похоже, что боится ее отпустить, как больной сиделку, но почему-то жалости к нему не было. Вдруг - звонок телефона в большой комнате. Николай Демьянович слабым голосом, едва слышно сквозь треск - из автомата - сообщил, что застряли в Замоскворечье, сели в кювет, машин нет, никто не вытащит до утра.
- Ты уж меня извини, переночуй там, у Александра Васильевича, а утром я тебя заберу. Только веди себя хорошо. Слышишь? Веди себя хорошо!
- А ты здоров? - кричала испуганно.
- Да, да! Здоров! Ты меня извини!
Непонятно было, зачем извиняется.
- Николай Демьянович не приедет, - сказала Ляля, входя в комнату, где тот лежал на диване. - Я побегу, Александр Васильевич? Может, успею на троллейбус. До свиданья! Где моя сумочка?
Вдруг нахлынуло - уйти немедленно, не оставаться больше ни секунды. Так бывало: непонятно отчего, и - никакой силой не удержать. Хозяин дома пытался уговорить, даже вскочил с дивана с неожиданной живостью. Куда? Что случилось? Не отдавал сумочку. Нет, нет, должна идти непременно. Но почти два часа ночи! Ничего, есть такси. А если вызвать домой? Нет, нет. Нет, нет, нет! Нет, исключено, совершенно невозможно. Сумочку - на память. Бегу, бегу, извините, большое спасибо. Да почему же такой пожар? В чем дело, собственно?
Смотрел с каким-то странным, напыщенным удивлением, почти высокомерно.
- Что вам сказал Смолянов?
- Сказал, чтоб вела себя хорошо. Что это значит, как вы думаете?
- Это значит... я думаю... - Схватил ее за руки, потянул. - Он болван! Зачем он вам нужен?
И тут - догадка ударила, оледенила. Всегда у нее так: сначала чувство, инстинкт, а потом догадка. В первую секунду сама себе не поверила, но затем - да, возможно, звонок не случайный. Потому что зачем же тогда извинялся? Человек, когда пьян, не умеет хитрить. Невольно проболтался: просил прощения.
- Нам надо о многом поговорить. Мы не успели... - Лобастый человек говорил теперь очень строго и крепко держал Лялины руки, она вырывала их, но пока еще не изо всей силы, потому что он какой-то больной, и она боялась. Он говорил об Академическом театре, о том, что он ее устроит, переведет, назначит, повысит, предоставит любые концерты, поездки, и что в противном случае, она должна понять, женщина с такими губами... Ну нет уж! Этим способом от нее никто ничего не добивался. Спросила вдруг ласково:
- Скажите, а Николай Демьянович очень вас боится?
- Что? Еще бы!
Ляля засмеялась. Спокойно, спокойно, отдохните, вам вредно. Тоска и презрение к тому, вралю, вдруг превратившемуся в жалкое, нечеловеческое отродье. Про себя клятвенно: ни одного слова, ни взгляда в его сторону. Летела сквозь метель по громадной пустой Садовой. Куда? Пробежав долго, вдруг поняла, что бежит без смысла, надо к центру, метро закрыто.
Повернула к Покровке, чтобы дойти до бульваров, и - к Маше, на Чистые пруды. Через полчаса, измучившись, брела по бульвару, тихому и голому, как лес: ни бродяг, ни милиционеров, одни скамейки в толстой снеговой броне, и думала со слезами: "Господи, какая дура! На что трачу жизнь... А Гриша, родной..."
Ребров понемногу зарабатывал ответами на письма в двух редакциях и очерками для радио. Кроме того, печатал иногда мелкие исторические заметки в тонких журналах. Все это был мизер, чтобы как-то держаться на поверхности. В лучшие времена выходило около тысячи в месяц. Иногда набегало по семьсот, по триста, а то и вовсе - пшик. Теперь, когда Ляля стала приносить большую получку и возникали неожиданные гонорары, жизнь вроде упрочилась, но сделалась отчего-то еще тревожнее и нуднее. Раньше нет денег, ну и нет. Обойдешься чашкой кофе, не барин. А теперь Ляля может вынуть и тридцатку и сотню, но ведь - просить. И тут еще Ирина Игнатьевна портила кровь. Ей казалось, что он заставляет Лялю в погоне за рублем мотаться по концертам, выступлениям, то есть что он ее _эксплуатирует_.
И Ребров, ощущая эти тещины мысли - так прямо она их не высказывала, но давала понять, а иногда ему попадались ее послания к дочери, Ляля бросала их где попало, - чувствовал порой, что начинает Ирину Игнатьевну ненавидеть. Вечерами доносились ее жалобы Ляле: "Вошел в кухню и не поздоровался... Три раза просила наколоть дров..." Все это было нудность, невозможно терпеть. Рвался убежать на Башиловку, Ляля умоляла остаться, потому что тогда бы и ей пришлось ехать на Башиловку - что бывало и раньше, - но бросить мать одну было нельзя. Умолять-то умоляла, а вот приструнить мать по-настоящему никогда не хватало Духу.
Молчал, терпел, старался пораньше удрать в библиотеку, попозже вернуться.
В тот день он, как назло, вернулся домой рано. Был расстроен: в одной из редакций, где третий год исправно давали отвечать на письма, вдруг сказали, что новое начальство пересматривает список внештатников и он под вопросом. Почему? С какой стати? Знакомый человек смущенно пожимал плечами:
- Ничего не понимаю. Я думаю, через какое-то время ситуация прояснится...
Знакомая дама иронически заметила:
- Кажется, вы сейчас не так уж нуждаетесь? Ваша жена процветает? А есть люди, для которых эти письма - единственный способ заработать кусок хлеба.
Надо бы проявить настойчивость, пожаловаться, поскулить, там были колебания, но старая боязнь - показаться смешным, жалким просителем, и уступил. Конечно, есть люди более достойные, какой разговор? Все правильно. Новость была на редкость неприятной, но он виду не подал, даже пошутил, рассказал анекдот и ушел в гордом спокойствии. Бюджет сократился на треть. Никого не хотелось видеть, только - домой, к Ляльке. Она одна могла успокоить, сказать какую-нибудь утешительную чепуху.
Ляля должна была навестить в шесть часов отца в больнице и прийти около семи домой, спектакля в этот день не было. Она не пришла ни в семь, ни в восемь, ни в десять. Теща начала психовать, что, как всегда, выливалось в формы бессмысленных метаний: то она решала зачем-то бежать к метро, то звонить из автомата в Боткинскую, то прямо ехать туда. Ребров насилу уговорил: будоражить отца, какая глупость! В доме жила уже несколько дней Тамара Игнатьевна, тетя Тома из Александрова, приехавшая, чтоб немного помочь теще по хозяйству. Эта тихая, длинная старуха с несчастной судьбой - все ее близкие, муж и дети, погибли кто где - хотя прописана была постоянно в Александрове, в ста километрах, но подолгу жила в Москве у сестер Жени, Вероники, у брата Коли в Измайлове или, реже всего, здесь, у тещи. Была она домашняя портниха, неважная, теща говорила - "кундепщица", выучилась, чтоб хоть чем-то жить, и часто оставалась неделями у вовсе чужих людей. Теща свою Тамару не жаловала. Лялька и Петр Александрович относились к ней добрее, чем родная сестра, а та под разными предлогами старалась от сестринского пребывания и ее услуг отделываться. Предлог чаще всего был такой - боязнь штрафа. За то, что ночует без прописки. А при том, что сосед-милиционер полон злобы к Петру Александровичу, такой штраф может легко случиться.
Но истина-то была другая - глупая старушечья ревность с какой-нибудь подоплекой этак в четверть века. Когда Петр Александрович оказался второй раз в больнице, теща сама написала тете Томе и попросила приехать. Все, что копилось в Ирине Игнатьевне: страх за мужа, раздражение зятем, тревоги за дочь, мучения язвой, - падало громом на тихую долговязую тетю Тому. И та сносила, терпела, прощала, успокаивала. Сейчас она тоже пыталась Ирину Игнатьевну утихомирить и уж, во всяком случае, отговорить от поездки в Боткинскую, за что получила жестокий удар:
- Ты давно без мужа и без детей, ты меня не можешь понять!
Однако в одиннадцатом часу Ребров сам занервничал, побежал к автомату и позвонил Лялиной подруге Маше, которой Ляля иногда передавала сведения для него - это был способ связи. Маша оказалась дома. Нет, никто не звонил. Может быть, вот что - возник неожиданный концерт? Кажется, собирались на какой-то концерт в Красногорск.