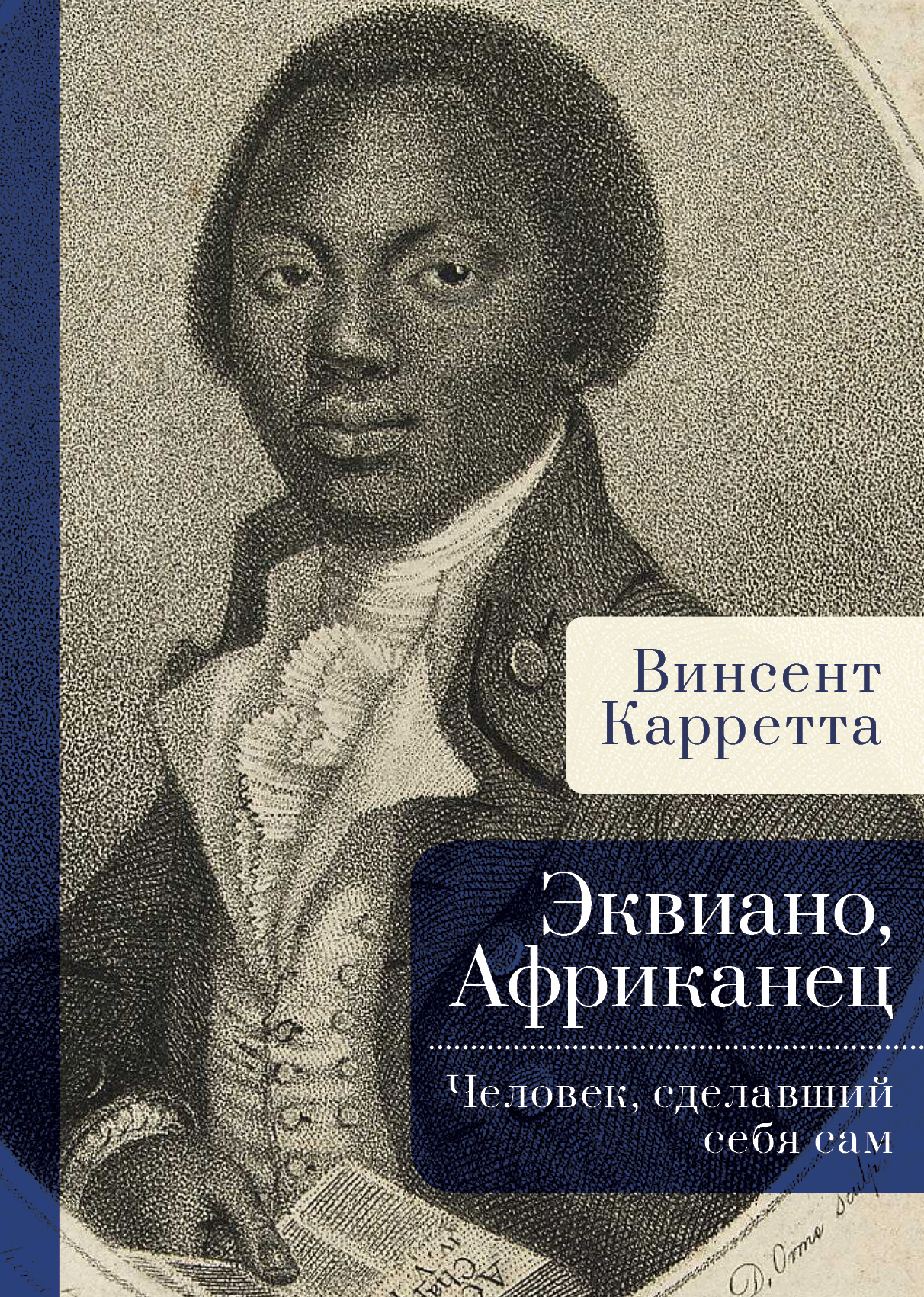выбрасываю остатки торта Джоджо в мусорное ведро, а потом набираю в стакан воды из крана и пью, чтобы только не смотреть на Па. Чувствую, как моя челюсть дергается при каждом глотке.
– Понимаю, ты хочешь поступить правильно по отношению к мальчику и забрать Майкла. Ты ведь знаешь, что они посадят его в автобус, да?
– Он отец моих детей, Па. Я должна забрать его.
– А что насчет его мамы с папой? А если они тоже захотят встретить его?
Я не думала об этом. Ставлю пустой стакан в раковину и оставляю его там. Па ворчит на меня, когда я не мою за собой посуду, но обычно он ссорится со мной только по одному поводу за раз.
– Если бы они собирались его встретить, он бы сказал мне об этом. Он не сказал.
– Ты можешь подождать, пока он снова позвонит, а уж потом решать.
Я замечаю, что массирую загривок и останавливаю себя. Как же все болит.
– Нет, Па, я так не могу.
Па отступает от меня на шаг, смотрит вверх, на потолок кухни.
– Ты должна поговорить с мамой перед отъездом. Сказать ей, что уходишь.
– Что, все так серьезно?
Па сжимает спинку кухонного стула и рывком двигает стул на пару дюймов, поправляя, а затем замирает.
Дарованный-не-Дарованный оставался со мной на протяжении всей ночи у Мисти. Он даже пошел за мной до машины и забрался на пассажирское сиденье прямо сквозь дверь. Пока я выезжала с усыпанного гравием двора Мисти на улицу, Гивен смотрел прямо перед собой. На полпути домой, на одной из тех типичных темных двухполосных дорог, асфальт которых настолько изношен, что из-за шума колес машины начинает казаться, что едешь по грунтовке, я резко свернула, чтобы не сбить опоссума. Тот застыл и выгнул спину в свете фар, и я могла поклясться, что услышала его шипение. Когда давление в груди наконец спало и перестало ощущаться, как подушка с горячими шипами, я глянула обратно на пассажирское сиденье, но Дарованного там уже не было.
– Я должна поехать. Мы должны.
– Почему? – спрашивает Па.
Его слова звучат почти мягко. Беспокойство делает его голос на октаву ниже.
– Потому что мы – его семья, – говорю я.
Разряд пробегает от моих пальцев ног до живота и поднимается до самого затылка, словно отблеск того, что я чувствовала вчера вечером. А потом он исчезает, и я остаюсь без движения, в унынии. Уголки рта Па сжимаются, и он становится похожим на рыбу, которая борется с крючком, леской, с чем-то гораздо большим, чем он сам. А затем это проходит, он моргает и отводит взгляд.
– У него не одна семья, Леони. И у детей тоже, – говорит Па и уходит прочь, зовя Джоджо. – Мальчик, – подзывает он, – мальчик. Иди сюда.
Задняя дверь захлопывается.
– Где ты, мальчик?
Звучит как ласка, словно Па поет песню.
– Майкла завтра выпускают.
Мама упирается ладонями в кровать, пожимает плечами и пытается поднять бедра. Кривится.
– Правда? – Тихий голос, едва слышный вздох.
– Да.
Она опускается обратно на кровать.
– Где твой Па?
– За домом с Джоджо.
– Он мне нужен.
– Я пойду в магазин. Скажу ему по дороге.
Мама почесывает кожу головы и вздыхает. Прикрывает глаза до щелочек.
– Кто его встретит?
– Я.
– А кто еще?
– Дети.
Она опять смотрит на меня. Хотелось бы снова почувствовать этот сладкий разряд, но меня уже окончательно отпустило, и теперь внутри пусто и сухо. Чувствую себя обделенной.
– Твоя подруга с тобой не пойдет?
Она говорит о Мисти. Наши парни сидят в одной тюрьме, так что раз в четыре месяца мы ездим туда вместе. Я даже не подумала спросить ее.
– Я не спрашивала.
Детство в деревне многому меня научило. Тому, что после первого яркого периода жизни время уничтожает все: оно ржавит механизмы, старит животных, которые теряют волосы и перья, и заставляет растения вянуть. Пару раз в год я замечаю это в Па – как он все худеет и худеет с возрастом, сухожилия натягиваются, становятся все жестче и тверже с каждым годом. Его индейские скулы становятся все резче. Но с тех пор, как Мама заболела, я поняла, что боль может все то же самое, что и время. Она тоже может есть человека до тех пор, пока не останется ничего, кроме костей, кожи и тонкого слоя крови. Может сожрать внутренности и уродливо раздуть человека: ноги Мамы выглядят как воздушные шары, готовые лопнуть под одеялом.
– И хорошо.
Кажется, Мама пытается перевернуться на бок, потому что я вижу в ней напряжение, но в итоге она лишь поворачивает голову и смотрит в стену.
– Включи вентилятор, – просит она.
Я отодвигаю кресло Па и включаю вентилятор, установленный в оконную раму. Воздух в комнате завывает, и Ма снова оборачивается ко мне.
– Ты, наверное, гадаешь… – начинает она и замолкает. Ее губы сжимаются.
Вот в чем я это вижу больше всего. В ее губах – они всегда были такими полными и мягкими, особенно в моем детстве, когда она целовала меня в висок. В локоть. В ладонь. Иногда, после того как я принимала ванну, даже пальцы ног мне целовала. Теперь это лишь иначе окрашенная кожа на сморщенных участках ее лица.
– … почему я не развожу суету.
– Немного, – говорю я.
Она смотрит на свои пальцы ног.
– Па упрямый. И ты упрямая.
Ее дыхание прерывается, и я понимаю, что это смех. Слабый смех.
– Вечно препираетесь, – говорит она.
Она снова закрывает глаза. Ее волосы настолько поредели, что сквозь них видно кожу головы: бледную и с синими венами, впалую, с ямками, несовершенную, как глиняная чаша гончара.
– Ты уже совсем большая, – говорит она.
Я сажусь, скрещивая руки. От этого груди слегка приподнимаются. Я помню, как ее рост ужасал меня, когда мне было десять, когда они только начали появляться двумя твердыми камушками. Как эти мясистые узлы потом стали ощущаться, как какое-то предательство. Будто кто-то солгал мне о том, что будет дальше. Будто Мама не говорила мне, что однажды я вырасту. Вырасту до ее тела. Вырасту такой же, как она.
– Кого любишь, того любишь. Делай, что хочешь, – говорит она.
Мама смотрит на меня, и только ее глаза выглядят в этот момент полными, круглыми, как всегда, почти карими, если присмотреться, с собирающейся в уголках влагой. Они – единственное, что время не уничтожило.
– Ты уйдешь, – говорит она.
И теперь я понимаю. Понимаю, что моя мать следует за Гивеном – сыном, который пришел слишком поздно и ушел слишком рано. Понимаю, что моя мать умирает.
В последний год школы и последнюю свою осень перед смертью Гивен остервенело играл в футбол. Рекрутеры из местных сообществ и колледжей штата каждые выходные приходили смотреть его игры. Он был высоким и хорошо сложенным, и его ноги почти что не касались земли, стоило ему заполучить мяч. Несмотря на то что он серьезно относился к футболу, он