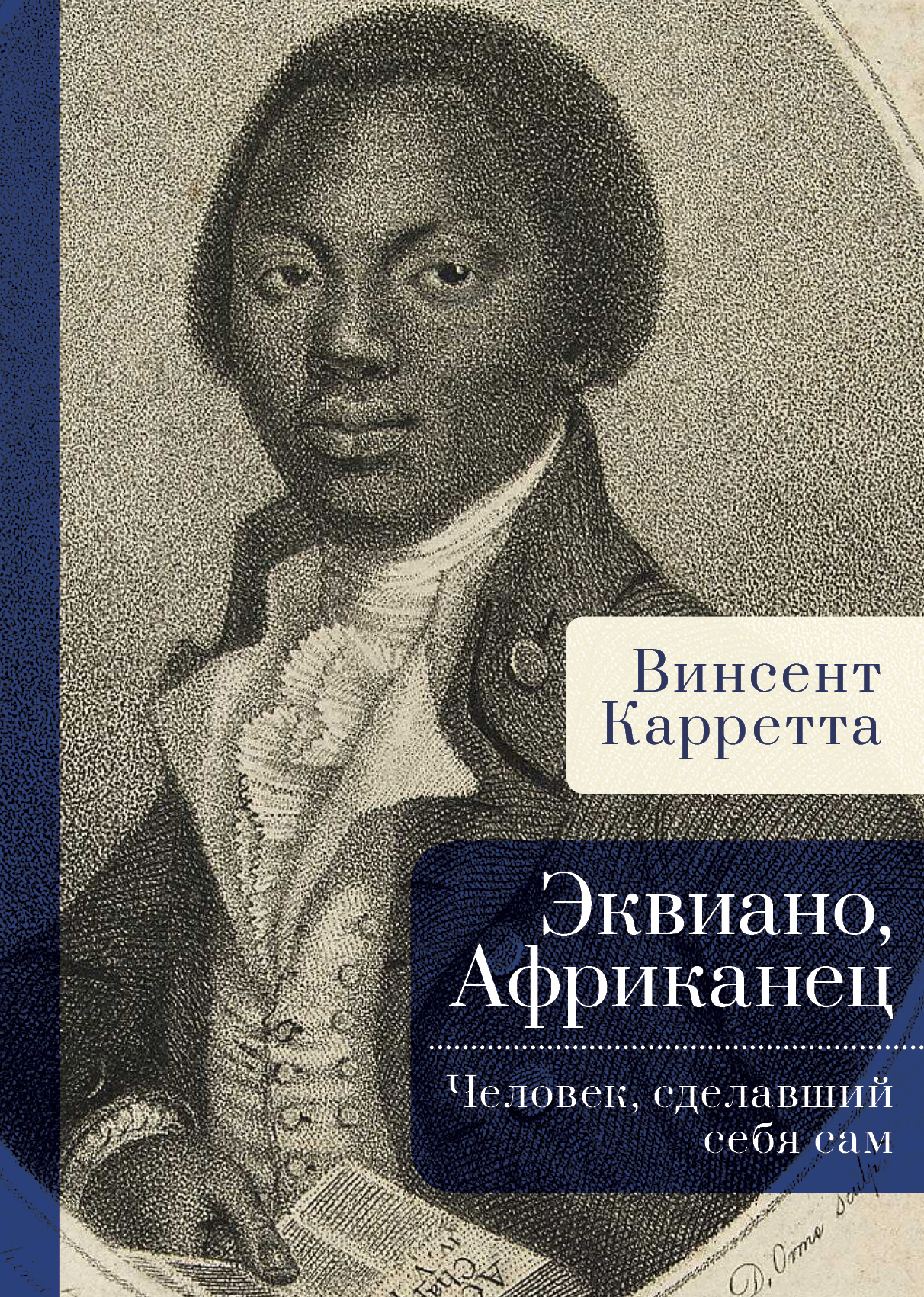кокаин поднимается по носоглотке, быстро попадая в мозг и выжигая всю горечь и отчаяние, которые я испытывала из-за отсутствия Майкла. В первый раз мне явился Гивен, когда я была на вечеринке в Килле: мой брат просто появился там, без пулевых отверстий в груди или шее, целый и длинноногий, как всегда. Но без усмешки. Он был без рубашки, а его шея и лицо были красными, будто он только что бегал, но его грудь была неподвижной, как камень. Такой же неподвижной, как, верно, после того, как его застрелил кузен Майкла. Я подумала о маленьком лесе Мамы, о десяти деревьях, которые она сажала по все расширяющейся спирали на каждую его годовщину. Я глядела на Гивена, затаив дыхание. Буквально пожирала его глазами. Он пытался со мной заговорить, но я его не слышала, и его это все больше и больше раздражало. Он сидел на столе передо мной, прямо на зеркальной поверхности с коксом. Я не могла снюхать новую дорожку без того, чтобы не положить голову на колени Гивену, поэтому мы просто сидели так и смотрели друг на друга, причем я старалась никак не реагировать на происходящее, чтобы не показаться сумасшедшей друзьям, которые в это время подпевали кантри, лизались по углам, как подростки, и периодически выходили на улицу в ночь пьяными зигзагами, держась за руки. Гивен смотрел на меня так же, как в детстве, когда я сломала новую удочку, которую подарил Па: совершенно убийственным взглядом. Придя в себя, я буквально кинулась к своей машине. Дрожала так сильно, что с трудом смогла вставить ключ в замок зажигания. Гивен залез в машину, сел на пассажирское сиденье и посмотрел на меня с каменным лицом. Я брошу, – сказала я. – Все, завязываю, клянусь. Он доехал со мной до самого дома, и я оставила его сидеть на пассажирском сиденье, в приглушенном свете постепенно всходящего солнца. Я прокралась в мамину спальню и смотрела, как она спит. Протерла пыль с ее домашнего алтаря: четки, свисающие со стоящей в углу фигурки Девы Марии в окружении серо-голубых свечей, речных камней, трех высохших стеблей рогоза и одного батата. Увидев впервые Дарованного-не-Дарованного, я не рассказывала ей ничего.
Телефонный звонок родителям Майкла расскажет мне все, что мне нужно знать. Я могла бы просто поднять трубку, набрать номер и молиться, чтобы на звонок ответила мама Майкла. Это был бы наш пятый разговор, и я сказала бы: Здравствуйте, миссис Ладнер, не знаю, в курсе ли вы, но Майкл завтра выходит на волю, и мы с детьми и Мисти собираемся его забрать, так что вы не утруждайтесь, хорошо, мэм, до свидания. Но я совершенно не хочу, чтобы трубку взял Большой Джозеф – взял и сразу бросил после того, как я несколько секунд посижу на линии и подышу в микрофон, не говоря ни слова. Но тогда я, по крайней мере, знала бы, что, если я перезвоню, он наверняка даст трубку миссис Ладнер, чтобы та разобралась, кто это был: пранкер, коллектор, попавший не туда обыватель или черная шоколадка его сына Майкла. Но я не хочу всего этого – не хочу разговаривать с мамой Майкла неловкими урывками, не хочу терпеть глухое молчание Большого Джозефа. Вот почему я еду на север, в Килл, с галлонами воды, влажными салфетками, сумками с одеждой и спальными мешками в багажнике, чтобы просто оставить спешную записку в их почтовом ящике. Записку, в которой я сказала бы все то, что сказала бы им голосом в спешке. Без знаков препинания. С подписью: Леони.
Майкл никогда прежде со мной не разговаривал. Однажды во время обеденного перерыва в школе, через год после смерти Гивена, Майкл сел рядом со мной на траве, коснулся моей руки и сказал: Мне жаль, что мой двоюродный брат – сраный придурок. Я думала, что на этом все закончится. Что после этого извинения Майкл уйдет и больше никогда не станет со мной разговаривать. Но он не ушел. Он спросил, не хочу ли я пойти с ним на рыбалку через несколько недель. Я согласилась и вышла из дома через переднюю дверь. Больше не было необходимости прятаться – мои родители были поглощены скорбью. Пойманы в ее паутину, слепые как мухи. В первое наше с Майклом свидание мы пошли на пирс у пляжа со своими удочками; я держала удочку Гивена на вытянутых руках, как некое подношение. Мы разговаривали о наших семьях, о его отце. Он сказал: Он стар. Старый пень. И я сразу поняла, что он имеет в виду, без объяснений. Ему бы не понравилось, что я сейчас здесь с тобой и что этим вечером я тебя поцелую. Или, если вкратце: он считает, что черномазые есть черномазые.
И я проглотила эту желчь его отца и пропустила ее через себя, потому что отец – не сын, так я тогда подумала. Потому что, глядя на Майкла в кромешной темноте под навесом на краю пирса, я видела в нем тень Большого Джозефа; я могла взглянуть на его длинную шею и руки, его стройное мускулистое тело, тонкие ребра его грудной клетки и увидеть, как однажды годы размягчат его до сложения отца. Как он обрастет лишним весом и усядется в свое крупное тело, так же как дом усаживается в землю под собой. Мне приходилось напоминать себе: они – не одно и то же.
Майкл наклонился над нашими удочками, и его глаза меняли цвет, как горные облака на небе перед сильной бурей: темнейший синий, водянисто-серый, густой зеленый. Он был достаточно высок, чтобы, обнимая меня, опираться подбородком на мою макушку. Словно специально под мой рост. Потому что я хотела, чтобы Майкл целовал меня, потому что с первого момента, когда я увидела его идущим по траве к тому месту, где я сидела в тени столба со школьными вывесками, он и сам увидел меня. Увидел сквозь кожу цвета черного кофе, черные глаза, губы цвета сливы, увидел меня. Увидел одну сплошную ходячую рану, которой я была, и стал для меня целебной мазью.
Большой Джозеф и мать Майкла живут на вершине холма в низеньком загородном доме с белым сайдингом и зелеными наличниками. Дом кажется большим. У ворот стоят две машины – новые пикапы, которые ловят лучи солнца и отбрасывают их обратно в воздух, словно искря на изгибах. Один красный, другой белый. Три лошади бродят по разделенным участкам, прилегающим к дому, а во дворе суетится стая кур, периодически забегая под пикапы и исчезая из