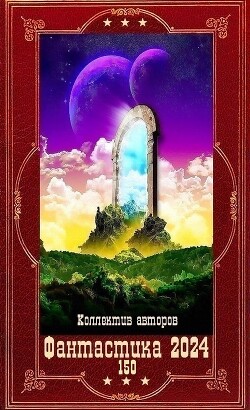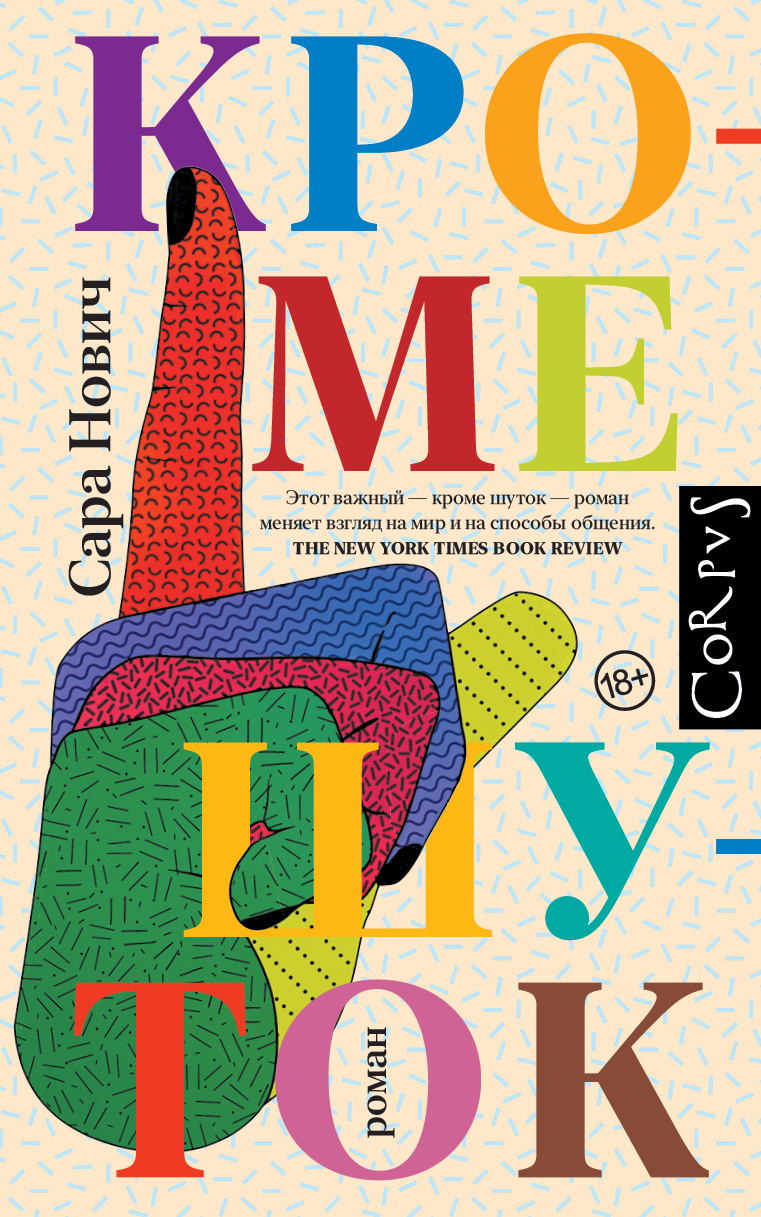отец, и к груди он прижимал целый ворох одеял и подушек.
– Ана, пойдем.
– Не хочу опять туда, – заныла я, но все равно встала с дивана.
Он скинул ворох прямо среди кухни и повел меня к чулану, расчищая место на полу и расправляя одеяло, насколько позволяло тесное пространство. Я посмотрела на отца и, прочитав безмолвное «прости» у него во взгляде, тут же шагнула внутрь и села, прижав колени к груди. Мать пристроила Рахелу на подушке рядом со мной, после чего они с отцом легли у входа в чулан. Спала я, упершись затылком в метлу, а отец держал меня за руку и сжимал ее каждый раз, как звучала сирена, до самого раннего утра.
Проснулась я в пустой квартире. Рахелы на подушке рядом не было, на затекших коленях я выползла из чулана и с трудом поднялась на ноги. Телевизор на кухне тарахтел перед пустыми стульями. Входная дверь нараспашку – проявление рассеянности, моим родителям не свойственной. В панике я выскочила в коридор. У соседей двери тоже были открыты, внутри галдели телевизоры, а в комнатах – никого.
– Tata [4]! Ты где? – крикнула я посреди коридора в надежде выманить хоть кого-нибудь из соседей, чтобы меня отругали за поднятый переполох.
Но на крик никто не вышел. Я уж было подумала, что в доме больше никого не осталось, как вдруг через весь коридор кто-то шепотом позвал меня по имени.
– Пс-с-с-с-с-с-с, Юрич, – прошипел женский голос.
Оказалось, это старенькая нянечка Рахелы. Она выглядывала в щелочку двери. Я протиснулась внутрь. Старушка стояла, ссутулившись над кухонным столом, опутанная телефонным шнуром, и что-то шептала. Когда я глянула на нее, она прикрыла трубку ладонью – рука, вся в венах, бледнее бумаги, казалась чуть ли не зеленой.
– Они все там, внизу, – сказала она.
И костлявым пальцем ткнула в сторону окна. Я метнулась к лестнице.
На улицу как будто высыпали жильцы со всего здания и сбились во дворе в тесные гомонящие кольца. Носовые платочки, объятия, потекшая тушь. Завидев родителей с Рахелой, извивавшейся в клубке из одеяла у матери на руках, я облегченно выдохнула, а потом взвилась от злости, ведь про меня-то забыли.
– Tata! – Я обхватила рукой его ногу.
Отец положил мне руку на плечо, не прекращая оживленную дискуссию с одним из главных караульных.
Я выскользнула у него из-под его руки и протолкнулась в самый центр кольца, в которое стянулись родители и соседи. На этот раз я окликнула мать и потянула за карман передника. Уже одно то, что мать вышла в переднике, говорило о нешуточности утренних событий, иначе бы она ни в жизнь не показалась так на людях.
– Мама, – позвала я, теперь уже робко. – Почему вы ушли без меня?
И опять родители меня как будто не слышали, но я узнала о случившемся из слов, витавших приглушенным рокотом по двору и звучавших иногда так синхронно, будто кто-то нарочно говорит в унисон.
«Vukovar je pao». От такого всеобъемлющего шепота становилось жутко, созвучно смыслу сказанного. Вуковар пал.
Вуковар держал осаду много месяцев. Люди из веревочного городка, которые теперь жили в Сахаре, и мальчишки, которых посреди учебного года привели в наш класс, бежали заранее. Мы слышали рассказы про родных и близких, которых строем уводили в лагеря для переселенцев – и поминай как звали; слышали рассказы о тех, кто остался, о мужчинах и женщинах с самодельным оружием, отстреливавших солдат ЮНА из окон собственных спален. Но я не понимала, что значит «пал», и пыталась представить что-то сопоставимое. Сначала я подумала про землетрясение, хотя сама ничего такого не переживала. Потом я вспомнила утесы в Тиске, куда мы ездили летом на отдых, и представила, как часть скалы рушится и падает в Адриатику. Но ведь Вуковар не крохотная деревушка у моря. Ракета, попавшая в Банские дворы, обрушила часть зданий на взгорье, но это лишь малая доля Загреба. Я понимала, что павший город – зрелище наверняка куда страшнее.
Скоро стало ясно, что кучки людей не статичны, а движутся куда-то в круговой толчее, но из-за роста я не видела, куда именно. Наконец людской круговорот вывалил со двора на главную улицу, и краем глаза я увидела, к чему было приковано всеобщее внимание: в центре стояла группка дрожавших мужчин и мальчиков, захлестнутых каким-то небывалым ужасом, так что даже я распознала в них беженцев. Вид у них был еще обреченнее, чем у людей из первой волны, взгляд ошалелый, а тело неестественно исхудавшее. Сжимая в руках клочки бумаги с адресами дальних родственников, друзей семьи, кого угодно, кто бы только согласился их приютить, они совали их под нос моим родителям и соседям и передавали обрывочные сведения с передовой в обмен на указания, как пройти до дома их родственников.
Какой-то мужчина из группы схватил отца за предплечье и трясущейся рукой сунул ему под нос бумажку с адресом. Лицо у него было потемневшее, под скулами – пустые впадины.
– Они убивают их, – сказал мужчина.
– Кого? – спросил отец, высматривая на бумажке зацепки.
– Всех.
– Не хотите супа? – спросила мать.
Дома, по телевизору, я увидела, что такое павший город. Репортаж был иностранный. Все хорваты в Вуковаре либо сражались, либо уже попали в плен, поэтому новостное агентство перехватило трансляцию из Германии, и слова корреспондента звучали как набор каких-то непонятных согласных. Они вели прямое включение, и закадровый голос шел без перевода, но что беженец, что мы с родителями прильнули к экрану, как будто если долго смотреть, то каким-то образом мы овладеем немецким. Цементные фасады домов стояли изувеченные, изрубцованные пулями и минометами. По главной улице города мчались танки ЮНА, а следом шел конвой белых миротворческих грузовиков ООН. Вдоль дороги, где когда-то, видимо, росла трава, теперь вся вытоптанная и обращенная в грязное месиво, люди лежали штабелями вниз лицом, уткнувшись носом в грязь и закинув руки за голову. Между рядов расхаживал бородатый солдат с калашом. И стрелял. Где-то кто-то вскрикивал. Камера дернулась в сторону и развернулась, вместо этого снимая обрушение церковного шпиля. Через динамики телевизора донесся приглушенный рокот далекого взрыва. На заднем плане под черными флагами с черепом маршировали по пустынной улице другие бородатые мужчины, распевая: «Bit ćе mesa! Bit ćе mesa! Klaćemo Hrvate!» На мясо их! На мясо! Перебьем всех хорватов!
– Выключите, пожалуйста, – попросил беженец.
– Минутку, – пробубнил отец.
Но тут в квартиру вдруг ворвался Лука, припечатав ручку двери прямиком в пробитую мной трещину.
– Ана!