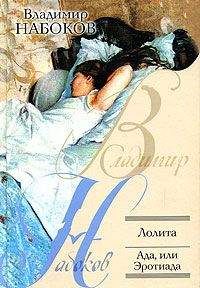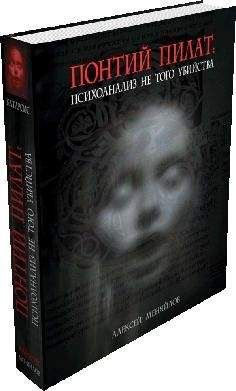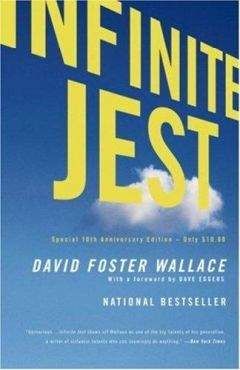4
Виолета Нокс [ныне миссис Рональд Оранжер. Изд.], родившаяся в 1940-м, поселилась у нас в 1957 году. Она была (и осталась – по прошествии десяти лет) очаровательной англичанкой, светловолосой, с глазами куколки, бархатистой кожей и затянутым в твид крупиком [.....]; впрочем, подобные украшения уже не способны, увы, раззудить мою фантазию. Она взяла на себя труд отпечатать на машинке эти воспоминания, – послужившие утешением того, что вне всяких сомнений составило последние десять лет моей жизни. Достойная дочь, еще более достойная сестра и полусестра, она в течение десяти лет помогала детям, прижитым ее матерью от двух мужей, откладывая [кое-что] и для себя. Я платил ей [щедрое] помесячное содержание, хорошо сознавая необходимость заручиться не обремененным заботами о хлебе насущном молчанием со стороны озадаченной и добросовестной девушки. Ада, называвшая ее «Фиалочкой», не отказывала себе в удовольствии восторгаться камеевой шеей «little Violet»[323], ее розовыми ноздрями и собранными в поний хвостик светлыми волосами. Порой, за обедом, потягивая ликер, Ада вперялась мечтательным взором в мою типистку (большую поклонницу «куантро») и вдруг, быстро-быстро, чмокала ее в заалевшую щечку. Положение могло бы значительно осложниться, возникни оно лет двадцать назад.
Не понимаю, зачем я отвел столько места седым власам и отвислым приспособлениям достопочтенного Вина. Распутники неисправимы. Они загораются, выстреливают, шипя, последние зеленые искры и угасают. Исследователю собственной природы и его верной спутнице следовало бы уделить куда больше внимания невиданному интеллектуальному всплеску, творческому взрыву, разразившемуся в мозгу этого странного, не имеющего друзей и вообще довольно противного девяностолетнего старца (возгласы «нет, нет!» в лекторских, сестринских, издательских скобках).
Он питал даже более ярое, чем прежде, отвращение к поддельному искусству, пролегающему от разнузданной пошлости утильной скульптуры до курсивных абзацев, посредством которых претенциозный романист изображает потоки сознания своего закадычного героя. С еще меньшей терпимостью он относился к «Зиговой» (Signy-M.D.-M.D.[324]) школе психиатрии. Он избрал составившее эпоху признание ее основателя («В мою студенческую пору я старался дефлорировать как можно больше девушек из-за того, что провалил экзамен по ботанике») эпиграфом к одной из своих последних статей (1959), озаглавленной «Водевиль групповой терапии в лечении сексуальной неадекватности» и ставшей одним из самых убедительных и сокрушительных выпадов подобного рода (Союз брачных консультантов вкупе с фабрикантами очистительных средств вознамерились было преследовать его судебным порядком, но затем оба предпочли не высовываться).
Виолета стучит в дверь библиотеки. Входит полный, приземистый, в галстуке бабочкой мистер Оранжер, останавливается на пороге, щелкает каблуками и (пока грузный отшельник оборачивается, неуклюже запахиваясь в шитую золотом мантию), едва ль не рысцой сигает вперед – не столько для того, чтобы ловкой рукой прихлопнуть зарождающуюся лавину разрозненных страниц, которые локоть великого человека отправил соскальзывать по скату конторки, сколько желая выразить пылкость своего преклонения.
Ада, забавы ради переводившая (издаваемых Оранжером en regard) Грибоедова на французский с английским, Бодлера – на английский с русским и Джона Шейда – на русский с французским, часто глубоким голосом медиума зачитывала Вану опубликованные переводы других поденщиков, трудившихся на этой ниве полубессознательного. Английским стихотворным переводам особенно легко удавалось растягивать лицо Вана в гримасу, придававшую ему, когда он был без вставных челюстей, совершенное сходство с маской греческой комедии. Он затруднялся сказать, кто ему отвратительнее: добронамеренная посредственность, чьи потуги на верность разбиваются как об отсутствие артистического чутья, так и об уморительные ошибки в толковании текста, или профессиональный поэт, украшающий собственными изобретеньицами мертвого, беспомощного автора (приделывая ему там бакенбарды, тут добавочный детородный орган) – метод, изящно камуфлирующий невежество пересказчика по части исходного языка смешением промахов пустоцветной учености с прихотями цветистого вымысла.
В один из вечеров 1957 года, когда Ада, Ван и мистер Оранжер (прирожденный катализатор) разговорились на эти темы (только что вышла книга Вана и Ады «Информация и форма»), нашему застарелому спорщику внезапно явилась мысль, что все его изданные труды – даже сугубо темные и специальные – «Самоубийство и душевное здравие» (1912), «Compitalia» (1921) и «Когда психиатру не спится» (1932), чем список далеко не исчерпывается, являют не просто решения поставленных перед собой эрудитом гносеологических задач, но радостные и задорные упражнения в литературном стиле. Так отчего же, спросили его собеседники, он не дал себе воли, отчего не избрал игралища попросторнее для состязания между Вдохновением и Планом? – так, слово за слово, было решено, что он напишет воспоминания, – с тем чтобы издать их посмертно.
Писал он до крайности медленно. Сочинение и надиктовка мисс Нокс чернового варианта отняли шесть лет, затем он пересмотрел типоскрипт, полностью переписал его от руки (1963-1965) и снова продиктовал неутомимой Виолете, чьи милые пальчики отстучали в 1967-м окончательный текст. Г, н, о – откуда тут «у», дорогая?
Успех «Ткани Времени» (1924) утешил и ободрил Аду, горевавшую о скудости выпавшей ее брату славы. Эта книга, говорила она, странно и неуловимо напоминала ей те игры с солнцем и тенью, которым она предавалась девочкой в уединенных аллеях Ардисова парка. Она говорила, что чувствует себя как-то ответственной за метаморфозы обаятельных ларв, выпрядших шелковистую ткань «Винова Времени» (как именовалась теперь – единым духом, на одном дыхании – эта концепция, вставшая в ряд с «Бергсоновой длительностью» и «Яркой кромкой Уайтхеда»). Однако еще ближе ее сердцу была – вследствие внелитературных ассоциаций, связанных с их совместной жизнью в Манхаттане (1892-93), – книга куда более простая и слабая, бедные «Письма с Терры», которых и уцелела-то всего дюжина экземпляров: два на вилле «Армина», прочие в хранилищах университетских библиотек. Шестидесятилетний Ван презрительно и резко отверг ее предложение переиздать эту книжицу вместе с отраженной Сидрой и забавным анти-Зиговским памфлетом, посвященным Времени во сне. Семидесятилетний же Ван пожалел о своей привередливости, когда Виктор Витри, блестящий французский постановщик, безо всякого участия автора снял картину по «Письмам с Терры», написанным полстолетия назад никому не ведомым «Вольтимандом».
Витри датировал посещение Терезой Америки 1940-м годом, однако 1940-м по террианскому календарю, а по нашему – примерно 1890-м. Такая уловка позволила ему не без удовольствия окунуться в моды и манеры нашего прошлого (помнишь, на лошадях появлялись шляпы – да, да, шляпы, – когда на Манхаттан обрушивалась жара?) и создать впечатление, столь любезное научно-фантастической литературе, будто «капсулистка» пропутешествовала во времени вспять. Философы задавали, разумеется, всякие въедливые вопросы, но падкие до обманчивых вымыслов зрители не обращали на них внимания.
В противоположность безоблачной Демонианской истории двадцатого века с англо-американской коалицией, правившей одним полушарием, и Татарией, которая, укрывшись за «золотым занавесом», неведомо как управлялась с другим, – вырезную картинку террианских автономий тасовала череда революций и войн. В выстроенном Витри – безусловно величайшим кинематографическом гением, когда-либо ставившим картину такого размаха или использовавшим такие толпы статистов (за миллион, уверяли одни, – полмиллиона и столько же зеркал, твердили другие) – внушительном обзоре истории Терры рушились царства, поднимались диктатуры, из республик же какие полусидели, какие полулежали в равного неудобства позах. Концепция фильма была спорной, воплощение ее – безупречным. Чего стоил один только вид крошечных солдатиков, беспорядочно драпающих по огромным, покрытым траншейными шрамами пустошам с грязными взрывами и машинками, там и сям произносящими pouf-pouf[325] на беззвучном французском!
В 1905-м мощно всколыхнулась Норвегия и ударом длинного спинного плавника отсекла от себя тяжеловесную великаншу Швецию, между тем, повинуясь подобной же тяге к разобщению, французский парламент в скоротечном порыве vive emotion[326] проголосовал за развод церкви и государства. Затем в 1911-м норвежские войска под началом Амундсена достигли Южного полюса, и одновременно итальянцы вторглись в Турцию. В 1914-м немцы захватили Бельгию, а американцы – Панаму. В 1918-м последние вместе с французами разбили Германию, пока она деловито разбивала Россию (которая несколько раньше разбила собственных татар). В Норвегии имелась Зигрид Митчел, в Америке – Маргарет Ундсет, во Франции – Сидони Колетт. В 1926-м еще одна фотогеничная война завершилась капитуляцией Абдель-Крыма, а Золотая Орда опять покорила Русь. В 1933-м в Германии пришел к власти Атаульф Гиндлер (известный также под именем Гиблер – от слова «гибель») и уже разгорался конфликт куда более грандиозный, нежели в 1914-18, когда Витри исчерпал старые документальные ленты и Тереза, роль которой играла его жена, покинула Терру в космической капсуле, успев напоследок провести несколько репортажей с состоявшихся в Берлине Олимпийских игр (основную долю медалей получили норвежцы, хотя американцы выиграли фехтовальный турнир, что было выдающимся достижением, и со счетом три-один разбили немцев в финальном футбольном матче).