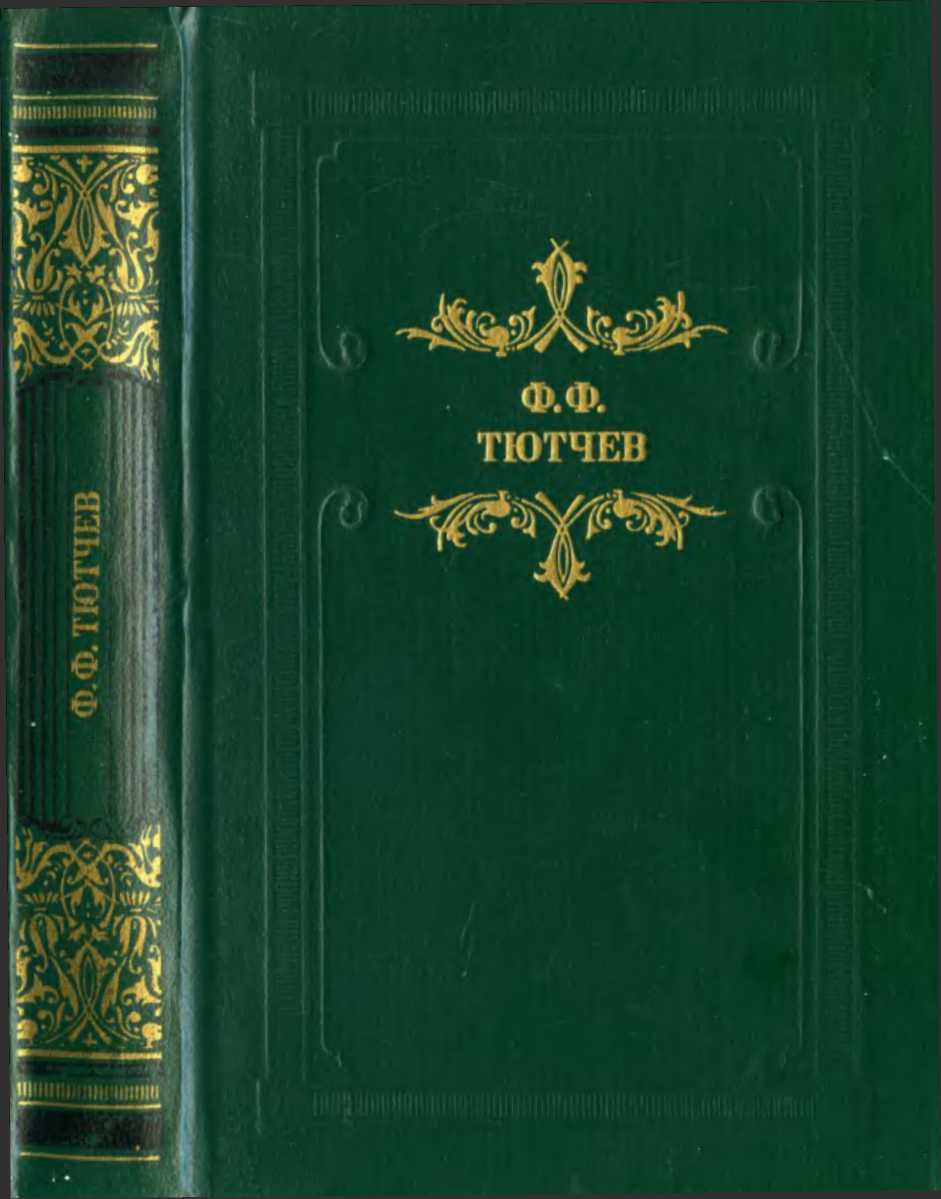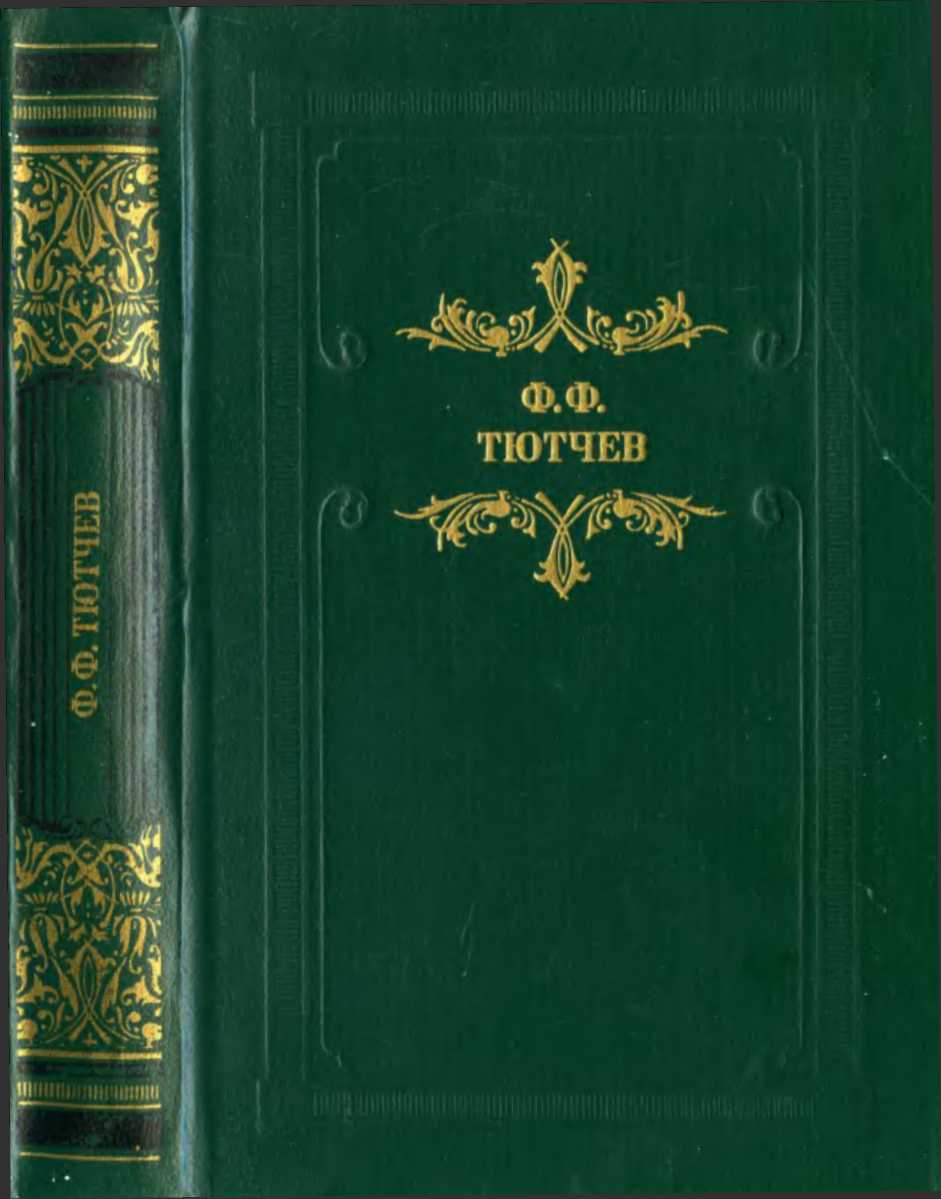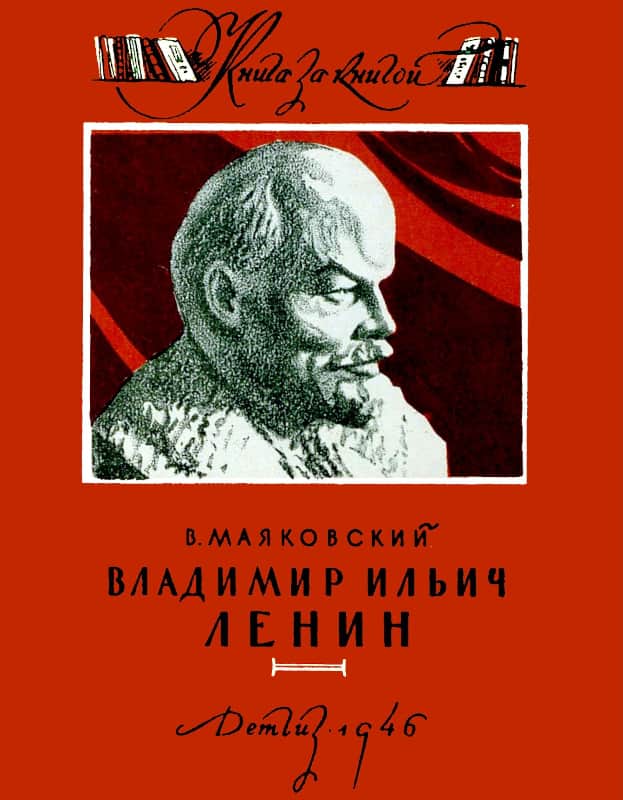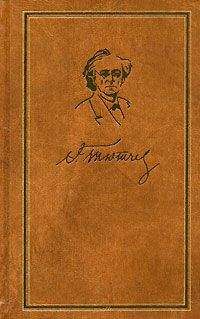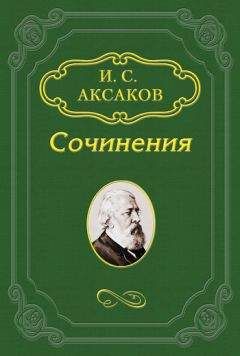Слезай! — звонким юношеским голосом скомандовал офицер, быстро соскакивая с своего иноходца. Очутившись на земле, он, прежде всего, принялся разминать ноги, очевидно сильно отекшие от долгого пребывания в седле. Тем временем, пока он прохаживался взад и вперед, останавливаясь и потягиваясь всем своим молодым стройным корпусом, от группы казаков отделилось двое бородачей и неторопливой, развалистой походкой направились к фанзе. Потрогав припертую изнутри дверь, они обошли фанзу кругом и, проткнув пальцами бумагу в раме, внимательно заглянули в полутемную внутренность фанзы.
— Эй, ходя [49], отопри, што ль? — крикнул один из них, заметив в дальнем углу притаившуюся фигуру китайца,— Не бойся, мы тебе, дурья голова, худого не сделаем. Отвори скорей!
Старик китаец, недоверчиво поглядывая на окна, продолжал жаться в своем углу.
— А пострели тя в бороду! — рассердился другой казак.—Ишь притулился, ровно заяц... Отворяй, говорят тебе, а то силой дверь вышибем!
И, как бы в подтверждение угрозы, он изо всей силы ударил в дверь носком тяжелого сапога. Дверь жалобно застонала, но не поддалась. Очевидно, она была изнутри надежно забаррикадирована.
— Э, черт! Язви тебя! — рассердился казак, готовый уже всерьез вступить в упорное ратоборство с упрямо не поддающейся ему дверью, но в эту минуту китаец вдруг стремительно покинул свой угол и бросился оттаскивать колья, подпиравшие дверь.
— Давно бы так, косолапый черт,—снова принимая миролюбивый тон, поощрили старика казаки, — а то защемился в фанзе, как турхан, а еще латуза [50].
— Шанго [51], казак, шибко Шанго, хао [52], — бормотал тем временем китаец, приседая и оскаливая свой беззубый, сморщенный poт в приветливую улыбку. Он дружески похлопывал казаков ладонью руки, иссохшей, как у мумии, в то же время робко и подобострастно засматривая им в глаза.
— Ладно, нечего лисить-то,— добродушно ворчали казаки.— А чего не отворял, когда требовали?.. Тебе за такое неповиновение «пилюлю» [53] бы следовало, ходя, понял — «пилюлю»? — И, говоря так, казак сунул свой объемистый кулак под самый нос китайцу. Китаец еще больше осклабился и заговорил голосом, которому старался придать как можно больше ласковой почтительности:
— «Пилюля» худа есть, шибко худа... Моя «пилюля» не хочет,— хихикал он,— моя латуза шибко шанго, шибко знаком будешь...
— Будешь тут с тобой шибко знаком,— передразнил казак. — Небось ничего нет? — добавил он строго, заглядывая ему в глаза.— Ну-ка, отвечай! Китана [54] ю?
— Мию [55]! — жалобно развел руками китаец.—Мию! — еще безнадежнее повторил он,— Моя Латуза шибко бедна есть китана мию, чушек [56] мию...
— Мию, мию,—с досадой передразнил казак.—Знаем мы ваш мию, а поискать — все окажется «ю». Неверный вы народ, ходя, вот что я тебе скажу!
— Нечего с ним тут много растабарывать, — перебил другой казак.— Поищем потом сами, а пока что доложить хорунжему, фанза хоша не бравая [57], а для ночевки подходящая!..
II
Ярко светит луна, заливая долину матово-серебристым светом. У одинокой фанзы, скрытые деревьями, устало пофыркивают казачьи кони, лениво пережевывая сухие стебли чумизы3. Тут же, развалясь прямо на земле, безмятежно спят казаки, сладко похрапывая и вздыхая во сне во всю ширь могучей казацкой груди. В фанзе спят только хорунжий4, урядник да старый латуза-китаец... Впрочем, последнему плохо спится. Свернувшись калачиком на жестком кане [58], он беспокойно и чутко прислушивается к шорохам ночи. Удивляется старый китаец беспечности русских. Видел он, как с вечера, по приказанию офицера, двоих казаков с ружьями поставили впереди фанзы, за кустами, караулить долину, а двух других поместили на высоком скалистом выступе, откуда была далеко видна тропинка, прихотливо извивающаяся по ущелью, но недолго прободрствовали караульные казаки. Не прошло и часа, как и те, что караулили долину, и те, кому была поручена охрана ущелья, спали глубоким сном, положив подле себя заряженные винтовки... Подивился на такую беспечность старый манза [59]. Думал он было разбудить казаков и внушить им, чтобы они были осторожнее, так как в окрестностях, как ему доподлинно известно, бродят японские разъезды и патрули, но безотчетный страх, внушаемый казаками, не позволил ему нарушить их отдых... Боится латуза русских, но еще больше того боится японцев. Если невзначай узнают, что русские ночевали у него, а он не дал знать о том старшине соседнего селения, который в свою очередь обязан был сообщить об этом на ближайшую японскую заставу, тогда плохо ему будет. Японцы не церемонятся, а голова простого манзы в их глазах не дороже кочна капусты. Снять ее проще простого. Знает это латуза и дрожит в рваных лохмотьях, едва прикрывающих его наготу, но тем не менее доносить на русских он не согласен. Положим, казаки зарезали у него трех последних кур и петуха, которых он так искусно скрыл в глубокой яме под самой стеной фанзы, закидав ее сверху хворостом; они же разыскали запрятанную в соломе крыши чумизу и сварили из нее кашу, а для своих лошадей забрали весь остаток гаоляна, хранившийся у него на огороде, но «манза» на это нисколько не в претензии. Во-первых, казакам есть надо — они два дня уже как выехали в дальнюю разведку и питались одними только сухарями; во-вторых, забирая все это, не только не били и не. ругали его, как это делали приходившие на прошлой неделе японцы, съевшие у него обеих чушек, а, напротив, ласково похлопывали его по плечу, добродушно приговаривая: «Шанго, латуза», «шибко шанго, знакома будешь!» Мало того, когда курицы и чумизная каша были сварены, казаки пригласили и его к чашке, кто-то дал ему ложку, и он всласть наелся вкусного хлебова. Наконец, и это самое главное, молодой казачий капитан дал ему за все у него забранное две кругленьких золотых монеты...
За всю свою долгую жизнь первый раз держал латуза на своих мозолистых ладонях золотые монеты. И серебряные-то редко попадали ему в руки, а золотых он не видывал, только слышал о них... До сих пор он имел больше дела с медными чохами [60], да и те не очень часто баловали его своим посещением. В первую минуту, почувствовав на своей высохшей морщинистой ладони две блестящих монетки, латуза ошалел и долго пристально смотрел на них, потом вдруг присел на корточки и разразился дребезжащим хохотом.
— Шибка шанго, капитан, ададэ, капитан, деньга — многа, многа! — радостно твердил он, приседая и любовно дотрагиваясь до плеча молодого офицера.
— Да, русские не то, что