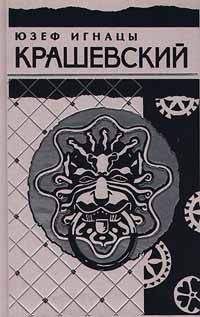весь обращенный внутрь. Все, что было в нем, скрывалось от наблюдателя непроницаемо. Молчаливый, таинственный, избегавший дружеских отношений, хотя ласковый и добрый, он, казалось, боялся людей или считал их недостойными себя. Он ко всем был предупредительно учтив, никому не подавал повода к какому-нибудь неудовольствию, но ни с кем от сердца не сходился, никого не принимал близко к душе. Сверстники напрасно старались с ним сблизиться: он не отталкивал их, но холодно держал себя вдали и не открывал им ни своих мыслей, ни тайны своего положения в жизни.
Еще в иезуитском училище молодежь называла его холодным и бездушным человеком, и только старшие и проницательнейшие из учителей видели в нем умение владеть собою и сильное самолюбие, которыми они могли бы хорошо воспользоваться, если бы он согласился вступить в их орден. Но Собеслав искусно уклонялся от их убеждений, не отказываясь наотрез и не обещая, а откладывая до некоторого времени. Тогдашнее воспитание не слишком развивало человека и мало приготовляло его к жизни. Высшею школою науки жить была тогда для юноши служба при дворе какого-нибудь магната, в войске или в присутственном месте. Однако сирота наш не без пользы посещал училище иезуитов: он порядочно научился по-латыни, так что и самого стольника Пурского удивлял своими отборными фразами, которые кстати вплетал тогда в разговор по обычаю тогдашних образованных людей; познал немножко и других наук; но всего больше достиг успехов в математике и умел вести расчеты с необычайной быстротой.
В домашней жизни он обходился искренно только с одной матерью, тем более, что она никогда не пыталась заглядывать в глубину его сердца; с прочими он вел себя приятельски, но холодно. К стольнику Пурскому был почтителен, но не допускал его в тайник своей души и третировал старого друга немного свысока. До-рота и Матвей, взлелеявшие и вырастившие его своими трудами считали его восьмым чудом света, а его важность и умеренность в разговорах с ними возбуждала в них какое-то боязливое к нему почтение. Они посматривали на него вполглаза, украдкой и только удивлялись ему.
— Что это будет за человек, — говаривала Дорота. — А, а, далеко пойдет он, выше отца! Хотя точь в точь такой же молчаливый, как и покойник был, зато как заговорит — есть чего послушать!
Матвей, напротив, ставил ему в недостаток, что он так мало говорит, особенно с ним.
— Я люблю его, — шептал он Дороте, трудясь в поте лица над табаком. — Добрый паныч, да зачем он такой молчанка, как будто ему кто рот замазал? Нет, и покойник не щедр был на слова, это правда, царство ему небесное, но все-таки, как придет человек и начнет его подстрекать на разговор, то и отзовется и поболтает, да и моей болтовни иногда послушает. А паныч — повернется, усмехнется: „Хорошо, хорошо, Матвей“, и прощай. Как бы я ни заступил ему дорогу, найдет, куда ему увильнуть. Эх, жаль! Все-таки мог бы узнать от меня что-нибудь доброе и посоветоваться. Его мосць, бывало, в дороге, как едем по песку, так и о тяжбе со мной разговорится. И то худо, что табаку не понюхает, затем так и худощав.
Тем не менее Матвей любил своего паныча.
В таком положении были дела, когда в одно утро приехал довольно неожиданно пан стольник Пурский. Старик, встреченный на дворе Матвеичем, который тотчас попотчевал его табачком, медленно приближался к крылечку, волоча ноги, опираясь на палку и на Матвея и расспрашивая его о господах.
— Ну, каково поживаете, каково вашей пани?
— Да что, сидит, пане стольник, в кресле; и в костел нет сил дотащиться; молится, да охает. Старость не радость. Да и вы что-то ногами шаркаете.
— Это они у меня по дороге что-то сомлели.
— Эге, вот и у меня не знаю, от чего начали млеть ноги. А прежде, бывало…
— А что паныч ваш?
— Здоров, слава Богу, и румян; только деликатный, как панна. Такой уж породы, видно. Ходит все еще к отцам иезуитам, только не знаю зачем. Чему ему там еще учиться! Вот, если бы к какому пану на двор…
— Не по нем такая служба, Матвей: там иной раз надо потерпеть и холоду и голоду, а иногда под сердитый час и батогами попотчуют, не с его натурою…
— Это правда, — сказал Матвей, — вот, если бы нюхал табак, так больше было бы силы. Но что с ним сделаешь, когда меня не слушается…
Стольник рассмеялся и вошел к вдове с низким поклоном и готовою шуткою, какие он любил отпускать иногда уже слишком запросто. Но, взглянув на Секиринскую, прикусил язык — так она переменилась, так была бледна, так тяжело дышала. Он положил палку с шапкою в угол и, шаркая от дряхлости ногами, подошел к ее креслам.
— Ну, что, мосци добродзейко, как ваше здоровье?
— Как видишь, не лучше, пан стольник: кажется, что не надолго потянет; ноги не служат, в груди так трудно, что и лечь нельзя; только что живу и дышу.
— Ас доктором посоветоваться?
— Напрасный труд, пан Петр, напрасный труд! Что Бог предназначил, того не переиначит никакой доктор. Кажется, что пришла пора отдохнуть.
— Э, фе-фе! Не хочу я этого слушать и не затем приехал я, чтобы меня потчевали такими пустяками. Поговорим о чем-нибудь другом… Что Собеслав?
— Все тот же несравненный, милый мальчик.
— Ходит в училище?
— Ходит, потому что больше нечего делать. Хотела его к суду пристроить, так боится товарищей, которые всякого чем-нибудь преследуют.
— К чему же у него есть охота, как вам кажется?
— Я думаю, разве к хозяйству. Это врожденно дворянину. Но на чем хозяйничать? Разве за эти три тысячи взять где-нибудь подле нас, пан стольник, аренду?
— Тяжело, тяжело! Но, впрочем, об этом поговорим. Почему же и не так, лишь бы удалось приискать.
— А что о Секиринке слышно? — спросила тихо вдова.
— Что? Там уже молодой Вихула распоряжается и бушует, как в омуте черт. Не в свою меру гуляет. Не надолго ему хватит!
Старушка вздохнула. Стольник покрутил ус, поправил полы у кунтуша и опять вздохнул. Перемена лица и голоса вдовы сильно его поразила; он удивлялся, что не искали средств от такой явной болезни, и лишь только воротился домой Собеслав, он тотчас отвел его в сторону и начал говорить о докторе. Сын отвечал, что мать на это не соглашается, а вдова, вслушавшись в их разговор, или, может быть, догадавшись, о чем они трактуют, прервала его словами.
— Я знаю, о чем вы говорите. Я уже сказала, что это будет напрасно. Сами