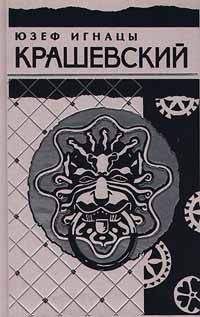от госпожи бедственное состояние ее средств. На ее вопросы ей всегда отвечали, что доходов с огорода и сада довольно для домашних запасов; но какие надо было иметь слугам сердца, какое самопожертвование, чтобы, привыкнув прежде к городской жизни, добывать в ней средства к существованию и не сбиться с своей дороги порчею нравов, дурными знакомствами и тысячью других обстоятельств!..
Матвей, не дожидаясь пока вырастет на грядках его табак, начал покупать его на рынке. Он в совершенстве обладал искусством выбирать самый лучший и завел в сенях производство любимого своего порошка в большем, нежели когда-либо размере. Он был убежден, что если только городские охотники нюхать узнают его табак, который он называл «матвеичем», то у него будет довольно покупщиков, и он не замедлит составить для своей госпожи порядочный капиталец. Сперва это казалось очень легким делом, но, побродя по городу, он увидел, что там продавали множество разных сортов табака по весьма низкой цене. Правда, по мнению Матвея, щепотку его табака можно было ценить дороже фунта другого, и в каждом сорте он находил толченное стекло, золу, мелко нарезанную щетину и другие вредные для носа вещества, — но, тем не менее, конкурентов было множество, и трудно было приобрести перед ними первенство.
Уверенность в собственном достоинстве не допустила его, однако ж, упасть духом, и он засел молоть табак в огромной глиняной лохани, избрав себе позицию, выгодную тем, что Дорота часто должна была проходить мимо него и давала ему много случаев хорошенько побраниться. В антрактах он тешил себя монологами о свойствах табачных листьев и самого порошка и разговорами с самим собою, которые любил душевно и умел обращать в свою пользу. Так, например, засевши с утра над своею лоханью, приветствовал сам себя весело:
— Здравствуй, Матвей! Здравствуй! А что твой табак? Да вот мелется, добродзей. Мели, мели, только было бы кому нюхать. Об этом не беспокойтесь: лишь бы попробовали! А что это ты сегодня заспался? Заспался, а может быть и нет. Что тут толковать, я заспался. Разве уж и помолиться нельзя перед работою? Помолился Богу, следовало бы и позавтракать, да поди ты толкуй с этою егозою Доротою! У нее еще в печи холодно, у нее еще рано: а идя мимо, сама говорила, что долго сплю. Так бывало в Секиринках. Э, э, болтай, болтай, а табаку не три! Эх, голубчик, листочек, не крутись попусту ступай на дно, сотру тебя в порошок, хотя и не любо тебе. Ты, видно, какой-нибудь Вихула! Вот же тебе, вот, — и т. п.
Дорота, со своей стороны, разузнавши, чем живет торговка, занимавшая прежде половину их домика, не говоря ни слова госпоже, постаралась прежде всего о лавочке, накупила разных мелких вещиц и лакомств, и хоть ее журили, что она таскается беспрестанно по городу, но в торговые дни она проводила по несколько часов на рынке, продавая свои товары. Добываемый таким образом барыш шел на домашние потребности или, по крайней мере, на необходимейшие запасы для кухни.
Матвей, хотя с большим трудом, но успел-таки, прославить свой табак. Он был человек на все руки, как говаривал Корниковский; умел хвалить себя и свой табак и уверял, что в Мазовии его искусство пользовалось всеобщей известностью. Нашлись люди, которые этому поверили и начали покупать «матвеич». Старый возница насказывал им столько достоинств о своем зелье, что «матвеич» нравился иному поневоле; и хотя фабрикант не очень много добывал денег, по крайней мере, не ел даром хлеба и, сверх того, ожидал в будущем горы золота.
Любил старик помечтать. Бывало, сидя за работою и ворочая скалкою, как будто вместе с табачными листьями приводит в движение и свои мысли, начнет говорить себе сказки, как ребенок.
— Едет вельможный пан воевода шестиконною коляскою; за ними двор, слуги без числа. Едут, едут, а табаку в дорогу взять позабыли. А тут у пана воеводы нос отощал и даже скорчился. Ай, кто жив, кто в Бога верует, нюх табаку! Подходит кто-то и открывает табакерку. Воевода взял, потянул, отведал. «Ага, что за табак, наслаждение, блаженство! Откуда это вицпань достал такого табаку? — От Матвея это табак „матвеич“. — Ищите, зовите его! Матвей идет и только ус окручивает. „Извольте, пане воевода“. А тот ему горсть золота. Как тут и король узнает о „матвеиче“ и велит выслать его к себе. Деньги сыплются, сыплются, и я покупаю для паныча Секиринок, и на старости занимаю для себя комнату через сени и мелю ему табак, потому что разве не буду жив, а уж он у меня будет нюхать!
Так бредил Матвей, трудясь над табаком; а в комнате спокойно сидела вдова с сыном. Утром она ходит с ним в костел, наряжая его как можно лучше, хотя и сама была одета убого, как будто его служанка; днем учит читать его по катехизису, а вечером идет с ним гулять в сопровождении Матвея или Дороты. Когда же настанут сумерки, дитя садится за столом, а пани рассказывает ему историю о Секиринских, указывая на фамильные портреты и родословное дерево, и говорит, говорит до тех пор, пока не подадут ужин и дитя не начнет дремать.
Так с малолетства воспитывала она в нем дворянскую гордость и, повторяя все, что некогда скарбникович рассказывал с таким энтузиазмом, прививала в нем чувство собственного достоинства. По мнению бедной вдовы, не было в Польше семейства, не было высокого сана и должности, недоступных для Секиринских. В молодой голове гуляли уже гетманы, воеводы, каштеляны, и важные фигуры старых портретов снились ему не раз. Он видел, будто бы его берут за руку, ведут в великолепные чертоги, сажают высоко и осыпают золотом и почестями. Бедному мальчику грезилось, что его убожество и унижение не могут быть постоянны; что это только какое-то испытание, что выпадет какой-то случай, произойдет какое-то счастливое событие, которое выведет его из этого состояния — и он пробуждался с удивлением, что день за днем идут однообразно, что никто не приходит на помощь, что никто не прерывает печальной тишины, уединения и бедности. Мать поддерживала эти мечты, вспоминая часто о тяжбе с Лендскими, и хоть эта тяжба не двигалась вперед, по недостатку средств, но постоянно была какою-то звездою над головою ее сына. А сын между тем рос набожный, тихий, добрый, но до такой степени уверенный, что он переодетый королевич, как будто был им на самом деле. По вечерам он любил сидеть у колен матери и слушать ее бесконечные сказания о Секиринских, о их сражениях, об