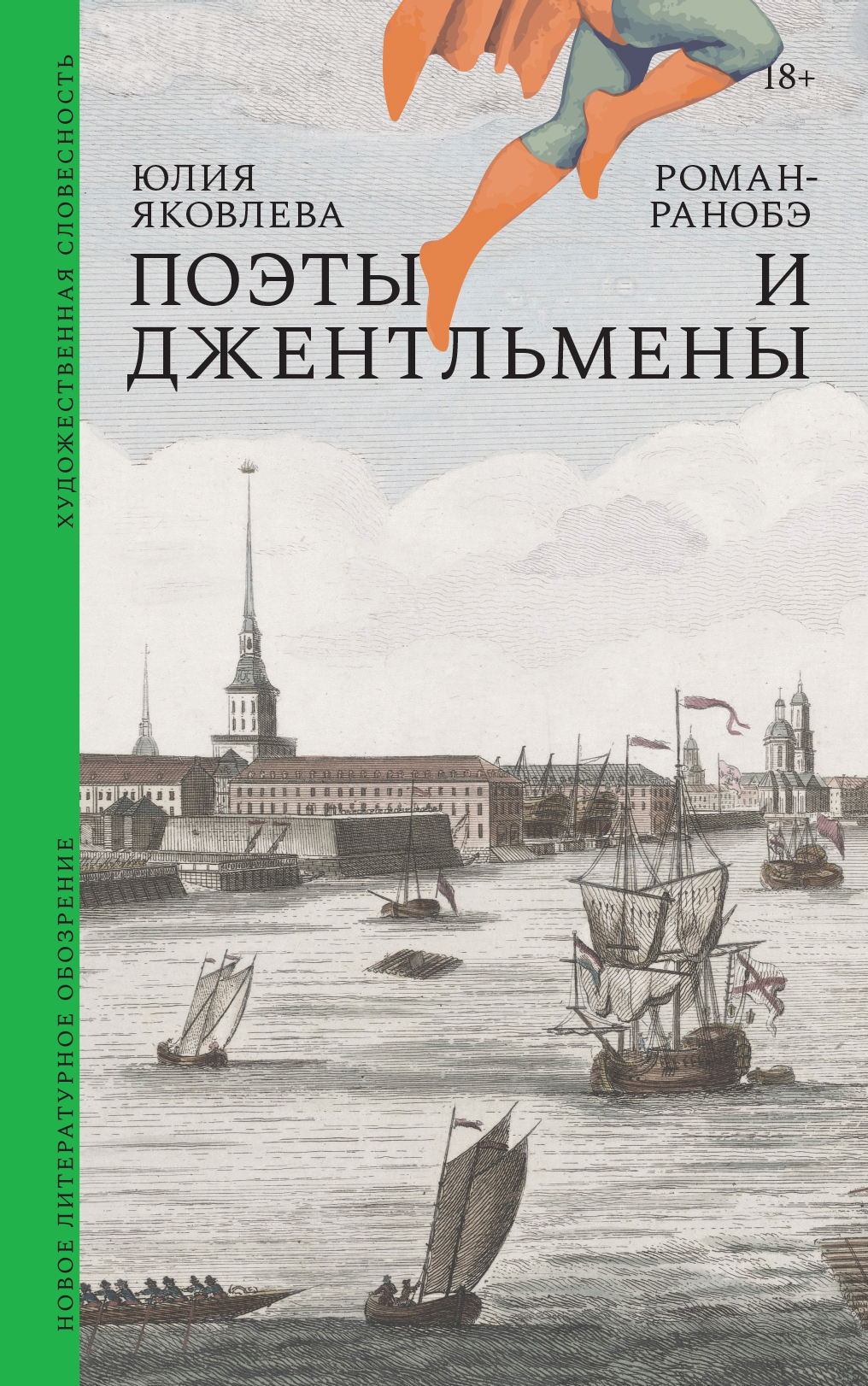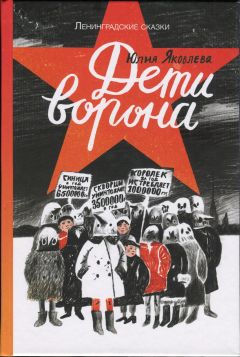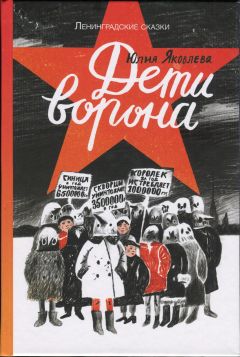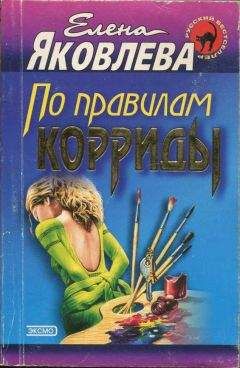русский:
– Муза.
Пушкин фыркнул. Даль раскрыл саквояж. Опустил в него обе руки:
– И компания, которую ты, возможно, сочтешь заманчивой.
Он бережно извлек и поставил на стол стеклянную банку. Черные запятые присосались к стенкам. Пушкина невольно передернуло от отвращения.
– Пиявки?!
– Арендт оценил твою кровопотерю в сорок процентов. Ему я верю. Крови он повидал немало.
Даль задрал рукав. Сунул руку в воду. Ловко схватил первое тельце. Холодное, будто резиновое. Вынул. Пиявка извивалась, крутя острым хвостиком.
– Изволь поднять рубаху. Сорок процентов – слишком мало.
Пушкин повиновался. Даль заставил себя не отвернуться. Смотреть. Видеть перед собой не друга, с которым столько пережили в той поездке по Уралу, не гения, перед чудом которого преклонялся, а пациента. Просто пациента. Наклонился. Изучил.
Рана была страшна. Живот вспух, кожа отливала синевой, густо воняло гноем. Даль сглотнул. Арендт прав. Сейчас надежды нет. Спасибо хоть, что и самого сейчас – тоже нет.
– Что? – невесело усмехнулся Пушкин. – Хорош?
Даль приставил пиявку. Пушкин вздрогнул. Даль поднес следующую, с хвостика капало, оставляя на рубахе раненого пятна, похожие на пятна от слез.
– Вы все это знали сами, – взволнованно заговорил по-французски Даль, русские слова казались ему в эту минуту какими-то слишком настоящими. – Вы знали это, когда писали «нет, весь я не умру». Иногда мы знаем больше, чем… думаем, что знаем.
Пушкин резко остановил его руку. Даль опустил глаза. На руку Пушкина, на изумруд в его перстне. Камень глядел в ответ, как твердое бдительное око. На самом дне его горела кошачья искра.
– Потерпите. Сорок процентов – слишком мало, – мягко пояснил Даль. – Нужно довести хотя бы до семидесяти. Лучше – больше.
Голубые глаза глядели требовательно.
– Скажи все моей жене. Я от нее ничего не скрываю. Слышишь?
Оба ощутили, что их связывает новая близость.
– Помоги. – Даль подвинул банку. – У нас мало времени.
Пушкин нырнул рукой в банку. Стукнул перстнем о стекло. Выловил пиявку. Сам приставил. Даль еще одну. Работали в четыре руки. Первые пиявки уже раздулись, стали похожи на черные блестящие сливы. Пушкин стал бел как бумага. Даже глаза как будто потеряли цвет – из голубых сделались ледяными. Веки порхали. Держать их открытыми было все труднее. Он терял сознание.
– Даль. – Шепот иссякал, усыхал. – Обещай. Скажи все моей… – оборвался.
Даль приставил двух последних пиявок. Сердце бешено стучало. Посмотрел на пустую банку. На свои мокрые руки. С них капало. Он вытер их о простыню, которой был покрыт диван. И стал ждать.
***
…В следующий раз он увидел эту квартиру… когда же это было? В тот день ударила оттепель. У парадной стояла вереница ломовых саней. Под ногами хлюпало. С неба капало. Небо было мокреньким и низким. Ветер с Невы – теплым. Даль то и дело придерживал на голове цилиндр. И это петербургская зима? Черт ее подери. Из парадной грузчики в фартуках выносили закутанную в чехлы мебель. Торжественно выплыл кожаный диван-исполин. Тот, что раньше стоял в кабинете покойного хозяина. Даль посторонился. С отвращением, как человека, который знает ваш секрет, проводил диван взглядом. Молодцы, бранясь и крякая, сгрузили, принялись вязать его веревками. Диван топырил ножки.
– Здравствуйте, Владимир Иванович.
Он спохватился, обернулся, приподнял цилиндр за мокрый край.
– Мое почтение, Наталья Николаевна.
– Благодарю вас, что пришли.
И умолкла. Она тоже смотрела, как вяжут диван. Под дождем перья на траурной шляпе медленно тяжелели, обвисали. Даль глядел на гагатовую сережку вдоль белой щеки, белой шеи. Черная слеза, которая все срывается, срывается, да не сорвется. Почувствовал, что краснеет. Даже в трауре госпожа Пушкина была ослепительно, немыслимо хороша.
– Мы не можем себе позволить эту квартиру, – произнесла. – Теперь.
– Куда же едете, позвольте узнать?
– Пока в Полотняный Завод.
Из подъезда выплыло зеркало. Пробежали в скошенной плоскости облака, набережная. Амальгаму стали усеивать капли. Пушкина равнодушно глядела на рябую поверхность, которую нерадивые грузчики забыли упрятать в чехол.
Даль почувствовал слабый запах табака: от ее волос, ее накидки.
– Но говорят…
– Что говорят? – быстро и недобро перебила она, обдав запахом табака изо рта. Даль смутился.
– Император будто бы недоволен, что вы…
Прелестные глаза сузились от злости.
– Почему вы думаете, что меня беспокоит, будет ли император доволен? Всех это почему-то интересует. Вы все почему-то думаете, что хорошо меня знаете.
– Извините, – пробормотал Даль. Уши его рдели. С перьев госпожи Пушкиной капало.
– Извините, – повторил.
Нежные брови разомкнулись. А морщинка на лбу – осталась. Выражение лица снова стало бесконечно печальным.
– И вы меня извините, – пробормотала вниз.
Подняла локоть, на котором висел черный ридикюль. Щелкнула замочком. «Не курите на улице», – хотелось попросить Далю: люди осуждают все. Только потому, что это – вы. Но он не имел права ее о чем-либо просить.
Да и вынула она не портсигар. Протянула:
– Вы были так…
«Я вовсе не добр», – хотел возразить Даль. Но она не договорила фразу. Он опустил взгляд на ее пальцы в черной перчатке. Зеленое око тут же вперилось в ответ. Взгляд Даля отпрянул. Госпожа Пушкина глядела куда-то мимо – то ли в лоб, то ли в висок:
– Он всегда надевал его, когда работал. Для вдохновения. Он хотел подарить его вам, когда… Возьмите… Ведь вы – тоже писатель.
– Нет-нет, – запротестовал Даль.
«Вот сейчас – сейчас ей и рассказать. Все».
Она решительно ткнула руку вперед:
– Нет! Владимир Иванович. Пусть это будет вам на память.
Даль принял перстень.
Ну же, скажи ей всё. Скажи… Он же просил. Он требовал!..
Госпожа Пушкина ждала. Он стащил перчатку, попробовал на большой палец, как носил Пушкин. Перстень застрял на суставе. Перевел на указательный. Перстень сел. Сразу стало неудобно, хотелось крутить, теребить. Перстень мешал.
– Очень хорошо, – сказала Пушкина. – Впору.
– Спасибо, – сказал Даль, с болью понимая, что врет ей. И ему, получается, тоже. Врет, врет, врет. Врет каждым словом, каждым взглядом, каждым вздохом. Может ли он ей хоть что-то сказать, что не будет ложью?
– И извините. Вы, конечно же, правы.
Она перевела на него свой правдивый косящий взгляд. Всегда как бы в глаза, но как бы и мимо.
– В чем же, Владимир Иванович?
– На самом деле я не знаю вас совсем.
Госпожа Пушкина дернулась мимо него, вскрикнув, как раненый заяц:
– Осторожнее! Ради бога!
Грузчики, бранясь и стукая углами, выносили пианино.
– Прощайте, – бросила на бегу. Ветер тут же разорвал, раскидал слово.
Даль перчаткой вытер лицо, на которое пригоршней упали холодные капли с ее марабу. Натянул мокрую перчатку. Лайка мягко лопнула на внезапно потолстевшем пальце – и сквозь дыру на Даля уставился изумрудный глаз.
***
Решительное «Входите!» из-за закрытой двери пробудило его от раздумий.
Даль крутанул перстень на пальце, отвернул зеленый камень внутрь ладони. Сжал кулак. Встал. Кашлянул. Одернул сюртук.
И вошел в гулкую кафельную комнату.
Взгляд его тут же метнулся к бледному лицу с закрытыми выпуклыми веками. Оно было все еще бледно. И потому страшно напомнило Далю гипсовую маску, которую снял литейщик Балин в тот же день, когда публике объявили о