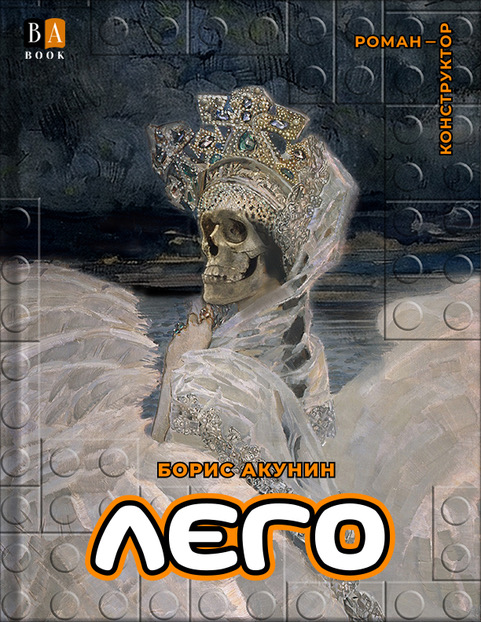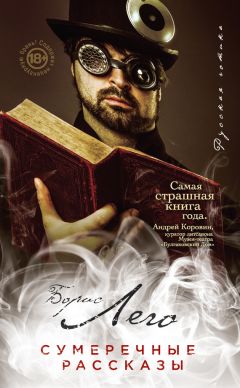ним остальные.
У самого прибоя стоял высокий человек в охотничьей куртке, махал мерлушковым картузом. Ветер шевелил светлые волосы.
Не дождавшись ответа, незнакомец снял с плеча ружье, пальнул в воздух. Эхо отпрыгнуло от скал, обрамлявших бухту, заскакало по водной ряби.
Керим взял свой длинноствольный штуцер венгерской работы, приложился к прикладу. Янкель схватил горячего турка за плечо.
— Годи! Пошумит да уйдет.
Мавка, пригнувшись, подступила к штурвалу, взяла там подзорную трубку, поймала в окуляр фигуру стрелявшего, покрутила ободок. Мутное пятно в стеклянном кружке, как по волшебству, обрело резкость, превратилось в лицо. Худощавое, даже суховатое, оно казалось вытесанным из мрамора — столь ясны и строги были все его линии, при том что человек был молод. Высокий лоб хмурился, тонкие губы кривились досадой.
«Пригожий пан, — подумала Мавка. — Чего ему от нас нужно?».
Однако в Янкеле любопытства было меньше, чем осторожности. Он велел не отвечать, и скоро чужой человек, махнув рукой, сел на коня да уехал.
Погадав между собою о том, кто бы это мог быть и по какой надобе, качаки позавтракали сушеной таранью и занялись всяк своим делом — о том у них было сговорено заранее, еще ночью.
Янкель отправился в Тамань, чтобы поискать покупателей табаку вместо нашкодивших горцев — у жидовина имелись в городке знакомцы, такие же пройдохи, как и он; Аспид остался стеречь вытащенную на песок лодку; Мавка с Керимом залегли в кустах подле алтынщиковой хаты — ждать, когда отлучатся постояльцы и можно будет забрать казну.
На крыльце сидел, покуривал трубку дядька в красном платке, повязанном поверх черных с проседью кудрей, в ухе у него блестела серьга. По всей повадке, а более всего по лихости, с коею курильщик сплевывал желтую слюну, угадывался старый моряк. Иногда он затевал песню на непонятном языке, часто повторяя в припеве «каррамба, каррамба», и, как видно, никуда не спешил. Он просидел в той же позе час, потом другой, зашел в хату, погремел там горшками.
— Этот никуда не уйдет, — шепнул товарке Керим. — Давай я его прирежу, мы заберем золото и уйдем.
— А куда мы потом денемся, аптáл? — отвечала Мавка («аптал» по-турецки — дурак). — В такую непогоду фелюка из бухты не выйдет. Вернется барин, увидит мертвеца, кликнет слободских, и нас в два счета сыщут. А еще я тебе то скажу, что этого чужака запросто не возьмешь — у него за поясом нож, какого будалá (простак) носить не станет. Как бы тебя самого не зарезали.
Керим было заспорил, но девушка без церемоний шлепнула его по губам, и головорез умолк. Он был грозен со всеми, но не с Мавкой.
Однако ж турку сделалось страх как скучно сидеть без дела.
— Расскажи что-нибудь, как ты умеешь, — попросил он. — А еще лучше, отойдем подальше в кусты и полюбимся друг с дружкой. Давно ты меня не баловала.
Да так пристал: либо расскажи, либо полюби, что Мавка, не желавшая покидать своего поста, в конце концов смилостивилась.
— Ладно, ладно, не канючь. Про что тебе рассказать?
— Про что хочешь. Я люблю тебя слушать. Хоть про это твое монисто. Ты давно обещаешься поведать, чем он тебе дорого.
— Что с тобой делать, — вздохнула Мавка, которой и самой надоело сидеть в кустах без дела. — Слушай же.
Она потянула ожерелье за цепочку.
— Видишь — тут семь монет? Они не простые, а заговоренные.
— От чего же заговор? — пугливо спросил Керим, не боявшийся никаких опасностей, но страшившийся всякого колдовства.
— От семи смертных грехов. Каждая деньга оборачивает грех с орла на решку.
— Как это?
— Из убытка в прибыток. Вот русский рубль. Он превращает гордыню в гордость. Польский злотый бережет от жадности. Ничего земного с таким оберегом не жалко, всё полынь-трава. Веницейский цехин не дает голове яриться от гнева, и моя всегда холодна.
— А гульден от чего? — спросил турок, тронув монету, висевшую с другой стороны.
— Не от чего, а для чего. Для того чтоб блуд был не срамом, а праздником. И я люблю кого хочу, когда хочу и как хочу. Даже тебя. Хоть ты и аптáл апталом, а всё же хват.
Ради «хвата» турок не обиделся и на «аптала». К тому ж ему хотелось узнать про остальные монеты.
— А пиастр?
— Этот переворачивает чревоугодие наизнанку, так что ешь не объедаясь и пьешь не обпиваясь. Ты знаешь, что я горилку пью не хуже мужчин, а видывал ты меня пьяной? То-то. Третья монета на левой стороне, немецкий дукат, не пускает в душу зависть. Я никогда никому не завидую, хоть королеве.
— Почему эта не целая, а с изъяном? — спросил Керим про монету, висевшую в середине, на самом почетном месте. Она была похожа на ущербный месяц, как если бы кто-то откусил от серебряной луны половину острыми зубами.
— То самый главный из амулетов, испанский песо. — Мавка любовно погладила пол-монеты. — Цыгане сказывали, что он не дает впасть в самый худший грех.
— Какой? — спросил Керим, подумав про все грехи, коими расцвечивал свою разбойничью жизнь, и ни одного не выбрав.
— Грех уныния. Так в церкви проповедуют, неуч, — укорила его собеседница.
— Я мусульманин, — пожал плечами турок. — У нас учат, что нет ничего хуже чем оскорбить Аллаха. А впрочем я не помню, когда был в мечети.
— Нет, — убежденно молвила Мавка. — Самое худшее в этой жизни — уныние. Оно отравляет всё. Знаешь, что рёк Иоанн Златоуст про уныние?
— Кто это — Иван Алтын-Агыз? — спросил нехристь.
— Пророк навроде Магомета.
Турок уважительно склонил голову.
— «Уныние подобно смертоносному червю». Если человек богат и здоров, сыром в масле катается, но в сердце своем бесщастен, то всяк мед ему горек, а любая радость не в радость. Человек и не живет вовсе, а ходит по кругу, как