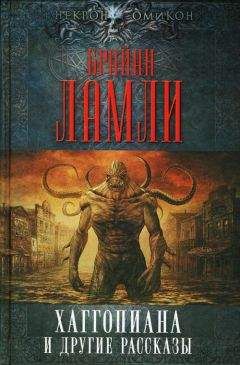предусмотренные Катариной задачи оказались выполнены, она потребовала начать все сначала, опасаясь, не упущено ли что-то важное.
В ходе этих приготовлений метлами и вениками были сметены и затем смешались с дорожной пылью тысячи мертвых мух, муравьев, жуков и мотыльков.
Когда колонна появилась перед отелем, все было давно готово.
В саду под большим солнечным зонтом стоял стол и садовые кресла. На столе был фарфоровый чайник, вокруг него четыре чашки с изображением польского королевского герба.
Катарина была слегка разочарована тем, что гости не заметили герба на чашках, но никому ничего не сказала.
А может быть, в ее взгляде вовсе и не было никакого разочарования.
Томаша Мерошевского растрогало, что здесь, на краю света, нашелся человек, который поставил перед ним чашку с польским гербом, хотя, вообще-то, в Кракове такая чашка вызвала бы у него приступ раздражение как знак, подчеркивающий принадлежность к низшему слою плебса, иностранных шпионов и богатеев, нажившихся на войне и чужих несчастьях.
Но о том, что это его растрогало, он никому не сказал. Ему понравилась эта молодая женщина, но этого он не показал.
Томаш Мерошевски и теперь, в старости, несмотря на то, в Черновцах вел себя как клоун и Дон Жуан, гордился своей сдержанностью – чертой, которую он считал самым важным признаком хорошего тона и происхождения. Из-за этой сдержанности его время текло медленнее, чем время людей, среди которых он жил. После того как Давида уложили в его комнате, чтобы он смог отдохнуть и выспаться, все остальные собрались за чаем обменяться общепринятыми знаками любезности, а потом началась продолжительная и непонятная окружающим работа по установке радиоантенны, и нескольким местным жителям, слонявшимся поблизости или прислуживавшим в отеле и время от времени сообщавшим в деревню о происходящих чудесах, работа эта показалась окончательным подтверждением того, что выглядело подозрительным еще ранним утром, – в Немецком доме начинается крупная шпионская операция, загадочная и страшная!
И это вовсе не обязательно будет шпионаж в пользу Адольфа Гитлера, в котором еще раньше подозревала немку и ее мужа половина жителей села, или в пользу Иосифа Сталина, в чем их подозревала другая половина. Появление Караджоза, о котором все еще ничего не было известно и которого никто не смог рассмотреть сквозь накидку из белой марли, наводило на мысль, что речь идет не о шпионаже в пользу какого-то государства или империи, сколь могущественной ни была бы такая империя, нет, речь идет о состоянии наших душ, и сведения, касающиеся всех изменений, прямо из Немецкого дома передают лично Сатане, его приемному сыну Люциферу или в крайнем случае кому-то, кто с этой парой близок и вместе с ними орудует в безграничном и всеобъемлющем царстве зла, подземном и земном, или же в самом большом и самом страшном царстве, том, которое возникает в воображении и навсегда завоевывает душу каждого, кто думает о Сатане и Люцифере.
В частности, разве не подозрительно, что люди во главе колонны, которые разговаривали на странном и непонятном языке, а потом сменили его на немецкий, появились именно ранним утром?
А их язык, шуршащий, резкий и всхлипывающий, который так шугал местных и приводил в растерянность! Услышав его издали, они начинали петь, громко и набожно, чтобы оградить себя от его дьявольской силы, поэтому он доносился до них только сквозь их собственные голоса и тогда казался похожим на тот, на котором говорили они сами и который в соответствии с тем, чего требовали изменяющаяся церковная мода и их настоятель, называли то народным, то хорватским, то сербским, то сербскохорватским, а с недавнего времени снова хорватским, и им казалось, что вот так, издалека, на расстоянии, они его понимают. Но стоило им приблизиться к Немецкому дому и услышать старика, молодую девушку и их хозяина, которые, сидя за столом, пили чай, они не могли понять ни единого слова, и их охватывал страх от собственных недавних предположений, что это их язык или что они его понимают.
Даже если бы в Мирилах были старики, которые служили в австрийской армии и воевали в Галиции, и они сказали бы, что эти люди говорят по-польски, никто бы не поверил, потому что речь, похожая на нашу, человеческую, но в то же время совершенно другая, может быть только у Сатаны. То, что поляки, если поляки вообще существуют, говорят на польском языке, это просто еще одна ложь Сатаны. У него добро похоже на зло, говор похож на наш, видом он похож на Всевышнего, и никакие поляки тут ничего не могут изменить. Примерно так объяснили бы это в Мирилах, если бы все же кто-то узнал язык, на котором говорили люди в колонне Караджоза.
Томаш устанавливал антенну вместе с Хенриком и двумя работниками из дома Катарины.
Первым делом он на земле соединил металлические части, шесть алюминиевых труб, которые нужно было поочередно вставить одну в другую, а затем на конце последней, самой тонкой трубы, где было четыре колечка, связал их вместе нейлоновыми шнурами, похожими на те, с помощью которых ловят крупную рыбу, после чего разложил шнуры на четыре стороны света. И приказал каждому из трех помощников взяться за один из шнуров, а сам схватился за четвертый. Начался подъем антенны.
Каждый работник под его дирижерским управлением тянул свой конец шнура на себя, и конструкция после непродолжительного покачивания то в одну, то в другую сторону, которое профессор останавливал и корректировал краткими и резкими командами, взмыла ввысь, а когда окончательно выпрямилась, то оказалось, что она выше мирилской колокольни.
Профессор собственноручно вбил в землю четыре клина, распределив их по четырем сторонам света, и к каждому, один за другим, привязал по шнуру, свисавшему с верха антенны. Когда дело было сделано, он несколько раз хлопнул ладонями, стряхивая комочки земли и пыль, и любопытные, тайком подглядывавшие за ним со стороны, из кустов – а в кустах их оказалось немало, и старых, и молодых, – восприняли эти обыкновенные, повседневные движения как часть некоего мрачного и зловещего ритуала.
Антенну было видно во всем селе, из каждого дома в Мирилах Франкопанских, за исключением немногих, не имевших окон, обращенных в сторону горы и севера, где стоял Немецкий дом. Неизвестно, кому пришлось хуже: тем, кто смотрел на антенну, или тем, кто не мог ее видеть.
На следующий день, ранним утром, Томаш Мерошевски включил радиоприемник и без труда нашел на шкале «Радио Варшавы».
Вниз по склону, в сторону села, а затем дальше, через виноградники и сосновые леса, до самого моря покатились волны симфонической