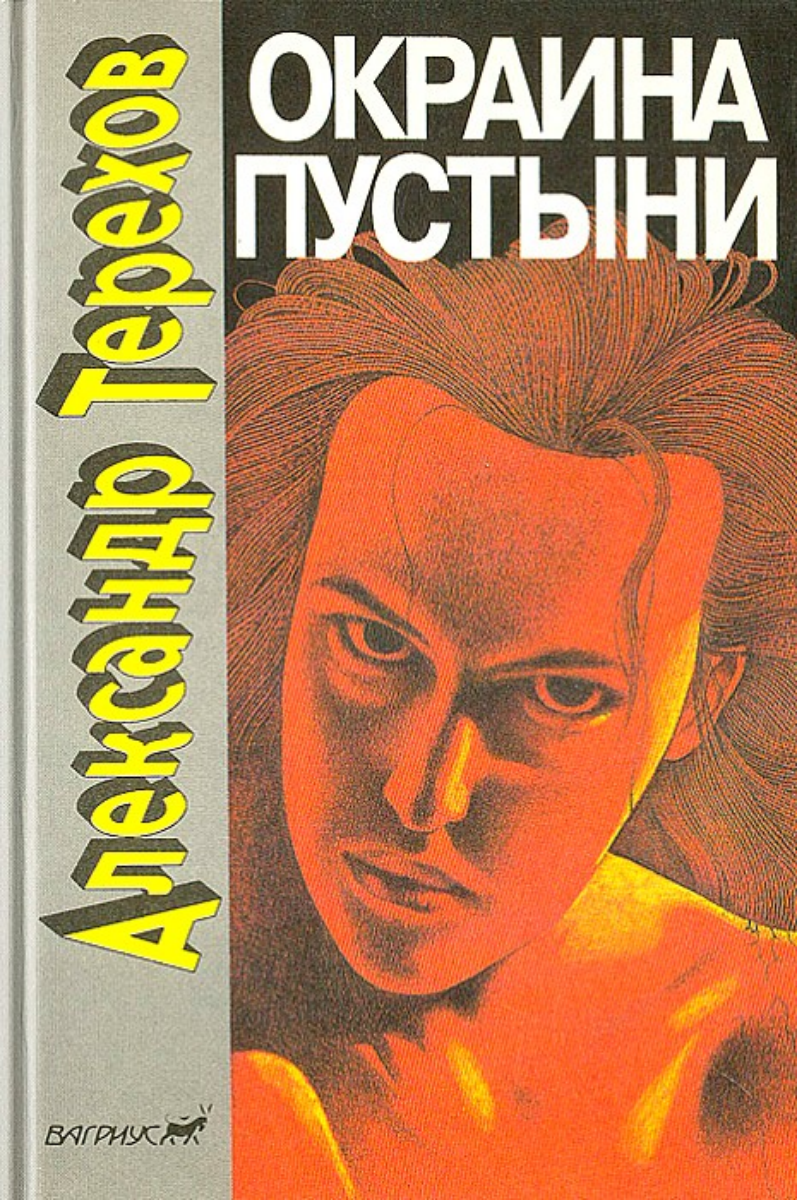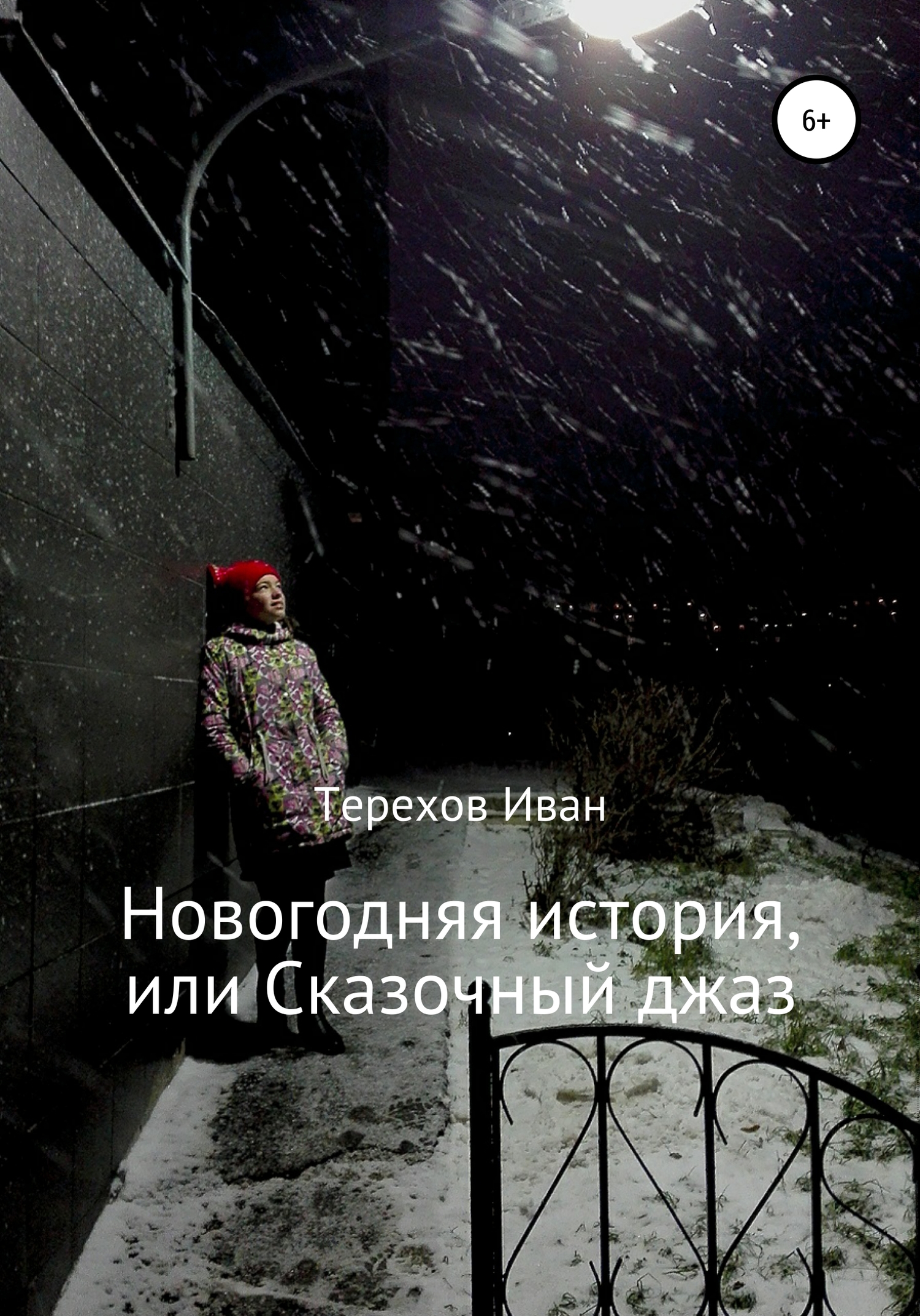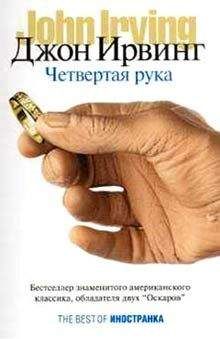вскинул глаза, блеснув очками и потупился снова. — Нет? Нет… Да-а. А… А осмелюсь ли я спросить вас хотя бы о названии точном читасмого мною курса? Ну а хотя бы — приблизительно, как? Вообще? А?
Грачев смотрел на него в упор.
— Да, я понимаю, что вам не стыдно совершенно, это мне ясно, ясно, чего уж… — объяснил лектор. — Я даже думаю, что излишним было бы интересоваться у вас моим именем или цветом учебника… И я не шучу, а уверен, что вы не очень тверды в сегодняшнем числе или даже в названии учебного заведения, где я имею честь преподавать. Но меня, как вы понимаете, это не обижает — вы хоть это-то понимаете? Но не соблаговолите ли вы объяснить мне одну штуку, ну совершенно не постигаемую разумом моим… Что происходит с вашим курсом? — И он вскинул на Грачева вытаращенные глаза.
Грачев подсчитывал про себя: да сколько же он не писал матери? Он теребил ремень сумки: сколько же, сколько же? Вот был снег или еще нет?
— Вы могли бы незамедлительно переадресовать этот вопрос и мне, — признался лектор, выбрался из кафедры и ухватился за первый ряд. — И это, может статься, справедливо. Но загадка участи поколения для меня разрешима, — он перебрался на ряд Грачева и плюхнулся рядом на стул, загудев Грачеву в ухо, — если я вижу хоть что-то. Хоть что-то! Но я ничего не вижу!
И он оцепенел, сжав сильными руками коленки.
Двери дернули снаружи, подергали, стул, замыкавший их, позорно рухнул на паркет и, белобрысый очкарик засунул голову в аудиторию, кого-то пряча за спиной. Он брезгливо глянул на лектора, на Грачева и исчез, известив крепким басом невидимого спутника:
— И тут ничего не читают, побродим, найдем… Где же наши?
И его ботинки громыхали размашисто и резко и были оправой для колющего кожу людскую острого перестука тонких томных каблуков, клюющих без запинки, но будто со вздохом воздушным в паузе — Грачев стер с щек колючий озноб плавными пальцами.
Лектор сильно подышал, откинулся назад и сунул ноги под передний стул, как Грачев.
— У вас хороший одеколон, — серьезно заметил Грачев. — Вот и перстень вы носите на пальце. Недешевый, да? Мне кажется, что у вас все схвачено и без нас, все хорошо.
— И презираете, и не верите, и все вы знаете про меня наперед. — Лектор с усилием прокрутил на пальце перстень. —Я ведь ищу уверенности. Почувствовать себя звеном в цепи. И я хочу знать, что такое вы. Ну пусть вы— пустота. И я знать буду, что вы пустота. Но только не неизвестность… Вы мальчик, вы даже понять не можете, как это связано с такой штукой, как смерть.
Грачев засунул ладони под затылок, потянулся, смочил краешком языка губы, подхватил сумку и пошел на выход.
— Не убегайте так, коллега, — слабо попросил в спину лентор, — мне ведь даже вас припугнуть нечем… Что вам до моего экзамена… А вы хоть чего-нибудь боитесь?
Грачев томился у дверей, еквозняк из коридора тыкался в его спину сухим, текучим хоботом.
— Или все — ничего? И в этом здании для вас — тоже? Ничего? — Лектор воздел руки к пожилой, пенной люстре и привстал. — Да? Ничего? А вот для меня, старого дурака, по-вашему, день счастлив, лишь когда я обмакну себя в тишину этих стен, подымусь по этим усталым ступенькам. Все время мое драгоценное — время до звонка, когда свобода: можно слушать скрип паркета… Вы хоть раз, один раз слушали этот дом?! — закричал он Грачеву, и губы его корчились. — Когда люди здесь—он мертв, каждый размазывает сго на себя… Но вот когда тишина, ну хоть бы глоток ее… И в этот миг начинаешь осознавать, так… недоступность всю этого дома, равнодушие даже его ко всему, в чем мы копошимся, — здесь великие голоса Белинского! Гоголя! Достоевского!.. Здешний воздух сродни чему-то незримому, неощутимому, тому, что растет неприметно для нас, что в ряду с жизнью и смертью, что ссть духовный скелет… А теперь я хочу услышать ваш голос, ну ответьте, коллега, громче, сразу, бяка за рога, — что вы думаете о смерти? Как бы вы хотели умереть?
— За нашу Советскую Родину, — кратко ответил Грачев.
Лектор выбрался из ряда и оказался совсем близко к нему — нос к носу. Грачев смотрел на мраморного Ленина за сго спиной.
И добавил:
— Очень хорошие у вас духи. Одеколон.
Лектор отвернулся трудно и выдавил:
— О чем я с вами, кто вы… Но я вот что скажу, хочу вам это сказать обязательно. То, что вы сейчас пытаетесь, — это не так. Это даже не так, как вы думаете, нет… Не надейтесь. А в вас, милый друг, — слишком много животного. Вы слишком любите жизнь — а это черта животных — сонных, трусливых, жующих, не знаю с кем даже сравнить. Вот для этого вы родились, и росли, и готовили себя — только для этого.
Грачев еле кивал готовно его словам, потом кивал просто— без слов, потом поперхнулся и не согласился:
— Нет. Тут чепуху сказали. Лично я себя готовил в контрразведку. Очень люблю книжки про разведчиков. И мечтал стать полковником КГБ. По возможности — почетным чекистом. Ага, вот вы спросили: почему?
— Я не спрашивал ничего.
— Охотно поясню вам, коллега. Первое: почему именно в контрразведку? Потому, что с языком было неважно, да и боязно как-то: двадцать лет на чужбине без отца и матери… Они нежные у меня очень. Тем меня и испортили. Это очень опасно: правильным быть мальчиком. Не вообще — правильным, а вот именно — мальчиком. И как без жены двадцать лет? Она здесь страдать да стареть, я там страдать — разве дело? Романы без любви —зто ведь разврат и позор. Нельзя врать, можно жить и спать с человеком, только когда его любишь и доверяешь. В любви главное — это стоит и вам записать: доверие. И второе. Почему — полковником КГБ? С этим проще. Просто нравилось. Полковник КЭ ГЭ БЭ. Сильно. До сих пор нравится…
Грачев переместился еще ближе к дверям, там обернулся и объявил парадно:
— А вот кстати. На тему: а хорошо бы! По существу жизненной линии!
И заголосил с зловещим подвываньем, взметнув руки к люстре:
— Ах, хорошо бы! И