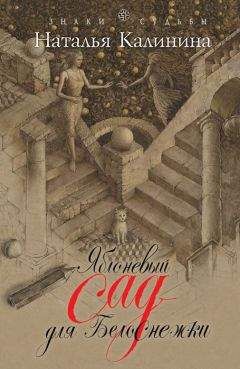- И вас допекло! - язвительно сказал тесть. - Пора!
А то все царство проспим. Отлежим себе бока.
Спать договорились с вечера, как только смеркнется:
завтра рано вставать, до зари.
Едва они покончили с приготовлениями, как нежданно-негаданно явился гость на "Жигулях" - вездесущий Филипп Федорович! Не спится ему, не сидится. Жена полулежала в машине, дремала, уютно откинувшись на сиденье.
- Почем мед сдал? - с ходу ошарашил его Матвеич.
Филипп Федорович покосился на меня, потер жесткие ладони и с принужденной бодростью догадался:
- Миллионер у вас был? Погоди, я его прижучу за пьянку! - погрозил кулаком. - Я не сдавал.
- Сколько накачал?
- Восемнадцать фляжек. Чепуха! - махнул рукою Филипп Федорович.
- Ничего, хватит на разжижку, - деревянным голосом обронил Матвеич.
- А вы будете качать? - в свою очередь поинтересовался Филипп Федорович, похаживая вокруг своей машины и тряпкою смахивая с нее пыль.
- Пусто! Воздух качать?
- Рамки в дороге оборвутся. Беды не оберетесь...
Когда ж вы под донник становитесь?
- Наймем машины и станем. Хочь завтра, - сказал Матвеич. - А вы тожеть переезжаете?
- Ага... - Филипп Федорович пнул ногою в заднее колесо, причмокнул языком. - Ослабло. Дома подкачаю.
- Куда? - затаившись, тихо спросил Матвеич. - Под фацелию?
Вести хитрые разговоры с Филиппом Федоровичем старики доверяют только ему: он ближе всех знает промышленника. Когда они переговариваются между собою, улавливая суть не в словах, а в том, что кроется за ними, определяя настроение по едва приметным жестам и выражению лиц, - мы, обступив их, почтительно слушаем и замираем от смутных догадок. Сейчас поединок идет решительный: время не терпит промедлений.
В напряжении вытянув лица и приоткрыв рты, Гордеич и мой тесть ждали, что ответит Филипп Федорович.
Он взялся за козырек фуражки и поперхнулся мелким, ехидным смехом:
- Куда! Вы же не говорите, куда сами едете поддонник. И я не скажу.
- Дело твое, Филипп Федорович. Секретничай. Мы завтра опять разведку проведем. Съездим к Гуньку. В хутор Беляев, - неожиданно для нас объявил Матвеич.
- В хутор Беляев! - необыкновенно взволновавшись, вскрикнул Филипп Федорович. - Там - овцы! Толока. Все начисто сбито. Черная земля!
- А Гунько стоит.
- Гунько в балке. Туда он ни за что не пустит. У него договор с управляющим отделением.
- Жалко, - притворно вздохнул Матвеич. - Хорошее было место.
- Было, да сплыло!
- Жалко...
Разговор иссяк. Обе стороны выудили для себя то, что им было нужно. Филипп Федорович взглянул на часы и, ссылаясь на крайнюю занятость, отбыл. На прощание он пожелал нам быстрее перебраться к доннику, ибо, по его мнению, торчать в лесу и сидеть на нулю не пристало хорошим пасечникам. Гордеич и тесть, дрожа от нетерпения, подступили к таинственно усмехающемуся Матвеичу:
- Ну что? Что ты понял?
- Он раскусил нас и не верить в донник, - поправляя на переносице очки, медленно и с достоинством вразумлял их Матвеич. - Тут мы переиграли, дали маху.
- Ладно! - Тесть дышал глубоко и часто, будто пробежал стометровку. Он едет или финтит?
- Едеть. Как бы он не подался в Беляев. Утречком смотаемся туда. Обследуем медофлору.
Гордеич присел на корточки и радостно ударил себя по ляжкам ладонями:
- Ёк-макарёк! Деды! Не я буду - обдурим Филиппа Федоровича!
- Гоп скажешь, когда пересигнешь. Не загадывай наперед, - мудро осадил его Матвеич.
27 мая
В Лесной Даче брезжит в половине четвертого, старики понеслись в хутор Беляев до света, в глубоких предзоревых сумерках. После их отъезда я уснул и пробудился с первым лучом солнца. Он проник сквозь окно и упал мне на лицо теплой струйкой. Я понежился, чувствуя на себе его утреннюю ласку, затем бодро вскочил и выбежал из будки. Утро было прохладное, по небу кочевали редкие облака. За ночь выпавшая на траве и листьях роса вблизи серебристо переливалась, вдали сизо дымилась, как ранняя изморозь. Во мне ожило радостное предчувствие перемены, и на этот раз оно не обмануло меня.
Старики, необыкновенно повеселевшие и возбужденные, исполненные рыцарской гордости победителей, нагрянули в одиннадцать с бутылками водки. У хутора Беляева они очутились среди посевов эспарцета, а за ними, в холмистой степи, набрели, вымочившись в росе, на бабку, шандру и синяк, на ароматно пахнущий сиреневый чабрец. Мой тесть размахивал бутылками и клялся, будто он еще нигде не видел такого раздолья, такого разнообразия медоносов. С полчаса они бестолково, как дети, нашедшие в траве бумажного змея, бегали по степи и не могли налюбоваться картиной: повсюду бурное, неистовое цветение - и ни одной пасеки. "Будешь, Петро, рисовать цветочки. Малюй!" - делясь со мною открытием, от всей души хохотал Гордеич.
Гунько нам не помеха: он в балке, а мы станем повыше, у лесополосы. В Беляеве перепадают дожди, дни теплые, с парком, и Гунько заливается медом. Он дважды качал и ладится откачивать снова. Каким-то чудом старики уговорили скупердяя, и он показал им рамки.
Что это были за рамки - во сне не приснится! Побелка - словно иней, соты донизу светятся чистейшим янтарным медом. Отведать его Гунько не дал, но Гордеич тайком обмакнул палец и лизнул - вкус майского меда с тонким ароматом луговых цветов! Можно легко вообразить его и не пробуя. А пчел-то, сколько в гнездах пчел!
Кишат гроздьями на рамках.
Старики выписали в конторе "Лесной Дачи" грузовые машины, которые прибудут вечером. Все-таки не позволили они Филиппу Федоровичу обвести себя вокруг пальца. Плут. Он тоже едет в хутор Беляев, уже оформил документы и станет на противоположной стороне балки.
Морочил нам голову, уверял: толока, черная земля. Овцы ходят, но их мало, всего одна отара, и выбить цветы на обширном пространстве они не выбьют. Ну и Филипп Федорович!
После обеда мы упаковали вещи и разобрали будки.
Крепление у них на болтах, стены и половинки крыш отделяются без усилий: откинул крючки, гайки отвинтили вся премудрость. Окончательные приготовления к отъезду заняли не более часа. Вечером, когда в гнездах соберутся все пчелы и утихомирятся за ночной кропотливой работой, закроем летки.
Я. взял палку и направился в степь. День был прохладный. Шагалось весело. Я волновался неизвестно отчего - от близости расставания с лесом или от предчувствия перемены, новизны в моей жизни. Странно мы устроены. Порою ничтожные, смутные ощущения, не выразимые словами, оказываются толчком наших последующих намерений. Шагая степною дорогой, которая уводила меня от леса, через поле суданки, к блестевшему во впадине каналу, я вдруг подумал, что сама судьба сводит меня с дочерью Гунька, нам не избежать встречи. Не эта ли мысль в подсознании смутно волновала меня и прежде? Пораженный догадкой, я остановился, рассматривая ершистый синяк, в цветках которого, напрягая брюшка, выбирали нектар пчелы... У круто срезанного откоса канала, безотчетно отдавшись ясному дню, я следил за мелкой рябью на грязновато-желтой воде, медленным, почти невидимым течением. Неподалеку косили несозревшую пшеницу, ровно выстригая поле, на ходу измельчая стебли; из переломленной трубы в кузов тракторной тележки сыпались зеленые хлопья.
Машины подвинулись к тому берегу канала - обдало гулом и вывело меня из созерцательно-спокойного состояния; я вспомнил о догадке, осенившей меня у неказистого синяка, а вслед за тем - о непрочитанном письме Нади, которое мне привез с почты тесть. Я разорвал конверт и углубился в чтение; жена просила меня не отвергать содействия Никодима Захаровича, убеждала переменить решение и написать ей об этом тотчас.
Я достал блокнот, вырвал из него пару листов и написал Наде, что во всем полагаюсь на ее такт и чутье; если она считает возможным и обязательным обратиться к услугам Никодима Захаровича - пусть так и поступает, я перечить не буду. Не возражаю. Я просил ее также впредь писать мне в Красногорск. Письмо я опущу проездом, в какой-нибудь сельский почтовый ящик.
На закате солнца пришел на пасеку. В ожидании машин старики, одетые в фуфайки, дежурили у своих пасек. Я тоже переоделся в шерстяной спортивный костюм.
В сумерках мы закрыли летки, и в это время прибыли машины. Небо заволокло тучами, месяц скрылся - и на просеке потемнело.
Гордеич засновал, забегал, жестяным баском стал распоряжаться, куда какой машине подъезжать, какие борта открывать. Шоферы по его указке подогнали грузовики к пасекам, потушили фары и, собравшись в тесный кружок, взялись о чем-то шептаться.
- Хлопцы, давай! - поторапливал их Гордеич.
Шоферы расступились, молча приблизились к нему и, очевидно приняв его за главного, вразнобой, но требовательно заговорили:
- Погоди, папаша, не гоношись. Сперва договоримся, сколько вы кинете на нос за погрузку. Сколько?
К ним подошли тесть и Матвеич.
- А что вы просите? - осторожно поинтересовался Матвеич.