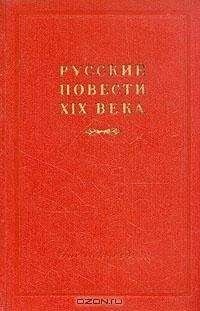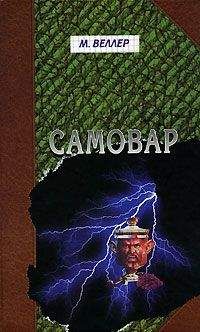— Дешево покупаешь, только домой не носишь! — ответил он. — Хошь купить, вот те рубль тридцать — последнее слово!
— И-и, так шило, говоришь?
— Шило, шило, совсем шило!
— Нету этого!
— И вижу, что нет! Не видать, как ни приглядываю, а струме-ент, как ни изловчись им, — все фигура!..
— А-а, фигура?
— Фигура, фигура, друг! И выдумали же, говорю, а? А что бы, к примеру, ты за экой самовар с меня спросил? — указав на среднего формата самовар, стоявший на окраине полки, спросил он.
— Десять рублев!
— Цена же!
— А ты как полагал?
— Ну да, оно, известно, всякому свое! Струмент-то вот этот, братец, а? И твердил званье-то его, лопнуть… и… уж без уступочки за самовар-то?
— Гривну для почину!
— А-а! Ну, да что говорить, одно слово вешшь. Дочку я замуж сооружаю, вот дело-то!
— За кого?
— Вдовый мужик-то, братец, и да вот, поди ты, не пьющий, нет энтого баловства-то за ним! Ну, так бабы-то говорят, вишь, самовар надоть да перину, а я-то, признаться, боле за струментом!
— У тебя деньги-то есть ли? — выслушав его, неожиданно спросил Мирон Игнатьевич.
— Деньги-то? А на что бы это тебе?
— Любопытно бы!
— Не полагай… Мы ноне с деньгой!
— То-то, коли ты для одного разговору, так отваливай, и без тебя много шляющих-то! И ты, молодка, тож не затеняла бы свету, не по нраву цена, ну и подь в другое место, вернее будет.
Мужичок, сооружающий замуж дочь, конфузливо почесал в затылке, бесцельно посмотрел в сторону.
— Сторони-ись! — крикнул, оттолкнув их от прилавка, крестьянин средних лет, в новом зипуне, с заломленной на затылок шапкой; в лице его сияло самое веселое довольство. — Видал ты столько денег, а-а? — обратился он к Мирону Игнатьевичу, развернув руку и показывая ему скомканный в ней пучок ассигнаций. — Много?
— Не считал, — отвечал он.
Вслед за ним из-за угла быстро вывернулась молодая красивая женщина и, подхватив его под руку, с силой оттащила от прилавка. Повернувшись к Мирону Игнатьевичу, увлекаемый, среди общего хохота сидельцев и толпившихся у балаганов крестьян, только кивнул ему головою и крикнул: "Знай!"
— Ай, баба! А-ах-ха-ха-а! Как она его! — прыснул седой как лунь старик в поношенной малке и, всплеснув руками, даже присел от удовольствия. — Ну-у, а что, купец, у вас в городах-то есть экие бабы? — наивно обратился он к Мирону Игнатьевичу.
— Худой-то посуды везде много! — ответил тот.
— И ей-богу! А-ах, как ты верно это, ну и купе-ец! Давай мне за энто обутки, утрафил ты мне энтим словом-то.
— По зубам дать, помягче, аль пофорсистей, кожаные с подбором? — спросил он.
— Свистун у меня, люби его бог, ноготь экой, в палец растет! — пояснил он.
— И с ногтем исшо, а-ах ты, старый! Гляди-ко!
— С ногтем! А ты как бы думал? — говорил он, ощупывая поданные ему Мироном Игнатьичем кошомные валенки. — А жидковаты ровно? — спросил он.
— Внучаты доносят, — не ты!
— А робят-то что ись не было, вот, друг, болезнь какая! — пожаловался он.
— Что ж так обштрафился, а?
— И радел, сердцем радел, — не было! — с тоскою в голосе ответил он.
— Помочь бы сделал!
— А-а, на ложе-то это? — с удивлением спросил он.
— Худую-то полосу ведь завсегда помочью вспахивают, и был бы с урожаем без горя, не догадался, старый, а? — насмешливо спросил Мирон Игнатьич.
— Строго-ой я… о-о!
— А-а-а!
— На энти дела… у меня баба в струне.
— А старый, говоришь, а?
— Не диви… хе!.. старый… Ты, к примеру, что за обутки вот возьмешь, а? Мотри только, с меня дешевле бери, старенькой я, убогой!
— Со старенького-то и взять надо дороже! Старому человеку на что деньги; молодому, ну-у, будто девки блазнят, можно спуск дать, а тебе нешто в гроб нести! Ну, да бери уж за семь гривен, что тебя обидеть… И без того бог убил!
— О-ох, убил! Верно! А все гривенку сбрось за божью-то обиду, а?
— Гривенку-то эту чья рука пообидела, та и пошлет!
— Не пошлет!
— Угневил, значит, свечу!
— На свечу-то и выторговываю, снизойди.
— На свечу ли, мотри, старый? Норовишь-то одному богу, а не поставь другому, туда вон, под ельник, а? — спросил он. — Ну, да бери уж за шесть, что с тебя!
Старик, кряхтя, достал ситцевый кисет, истрепанный временем, как и сам он, и, вынув из него пригоршню медных денег, долго пересчитывал их, внимательно осматривая подслеповатыми глазами каждую монету к свету.
— Все! — произнес, наконец, он, кладя их на прилавок. — Надоть бы вот исшо пятачок с тебя уторговать… ну… будто на слово боек, владай им! — И, махнув рукой, он отошел, бережно укладывая кисет за пазуху.
Крестьянин, торговавший самовар, все время стоял за углом балагана, пережидая ухода старика, и едва тот отвернулся от прилавка, он снова подошел и облокотился на него.
— Более гривенки уступочки с самовара-то не будет, а? — мягким, заискивающим голосом спросил он. — Я бы за восемь-то рублев не постоял!
— И я не постою, коли деньги покажешь! — отвечал ему Мирон Игнатьевич.
— Рази первей разговору деньги-то кажут, а?
— Не инако… потому с покойной совестью будем язык трепать,
— Покажу, не сумняйся!
— Ну… ну… покажи.
— Заведенья-то вот нет, чтобы наперво, значит, казать-то их. Може, мы и ценой не выговорим!
— Не отниму, твое при тебе будет! Сойдемся — ладно, не сойдемся — прощенья просим, напредки порога не обивай!
— Нехорошо энто, купец, неуж я бы, к примеру, без денег пошел, а?
— Секунд показать-то, долго ль?
— Обида!
— Никакой, похвала скорей, исшо мужик и на шапке заплаты, и полушубок дыра на дыре; а денежный, энто по-хвала-а-а!
— Не порядок! — тем же обидчивым тоном ответил он, отодвигаясь от прилавка и избегая глазами насмешливого взгляда, каким провожал его Мирон Игнатьевич.
Пока Мирон Игнатьевич хозяйничал в балагане, на широком дворе занимаемой Петром Матвеевичем квартиры подряженные для доставки рыбы возчики из ближних к Тобольску деревень складывали и упаковывали ее, под наблюдением Семена, в розвальни и пошевни. Более десяти возов были готовы к отправке. И сам Петр Матвеевич, одетый по-дорожному, хлопотал на дворе с Авдеем около повозки, приготовляясь к дальнейшему объезду деревень по Иртышу и Оби. В то время как Авдей запрягал лошадей, он укладывал в повозку дорожные вещи, упаковывая их в сено.
В это время во двор вошли Кулек и Вялый.
— Зачем бы пожаловали?.. — насмешливо спросил он, увидя их.
— К твоей милости! — ответил Кулек, стоя перед ним без шапки. В наружности Кулька заметно было, что он похудел и как будто съежился.
— Что ж бы это от моей милости требовалось?
— Снабди нас деньжонками, снизойди: у всех людей праздник, только у нас будни, будь ты по-душевному! Ты ж разорил-то нас, гляди, у всех взял рыбу-то по семи гривен, за что ж нас-то по шести рассчитал? Ведь рыба-то у всех одна, из одной реки-то!
— Ты старый-то долг весь мне отдал? — спросил его Петр Матвеич.
— По твоему-то счету исшо в недоимке!
— А по вашему-то как, а?
— По нашему-то весь бы!
— Так ты наперво донеси мне по моему счету, а потом уж я погляжу, как вам додать по вашему!.. — сухо ответил он.
— Ро-одной, сделл… ты милость!
— С которого боку я те родной-то, а? Ро-одной, а-ах-ха-а! Ты помнишь ли, как ругался-то надо мной, а? Аль это по родству-то? Зачем же таперя к человеку, у которого, по-твоему, честь хуже бабьего подола, кланяться-то пришел, а?
Вместо ответа Кулек только понурил голову.
— Отведал, каково-то, а? Теперь умоли-ко.
— Тебе ничаво, что мы плачем-то, не молитва.
— Поешь ли ты, плачешь ли, мне это все единственно… тьфу! — произнес он, сплюнув на сторону. — Семка! — крикнул он, — неси-ко, подь, подушку да погребец!
Семен быстро побежал в горницу.
— От кого ж мы плачем-то, от тебя же! — угрюмо ответил ему Кулек.
— Эвтакого тирана я б за версту обошел, а ты ко мне же идешь, а?
— И обошел бы, коли б не нужа.
— А-а… нужа-то только гонит… ну, так поголодай, испробуй, а я те не кормилец!
В эту минуту мимо растворенных ворот неожиданно прошел Иван Николаевич. Увидя на дворе Петра Матвеевича и Кулька, стоявшего перед ним без шапки, он остановился.
— Ноне и вдосталь заспесивился, ну-у, и шапки не гнешь? — насмешливо крикнул ему Петр Матвеевич, загребая в сено, в изголовье повозки, принесенный Семеном погребец.
— Не видать никого именитых-то! — ответил он, входя во двор, — а то снял бы!
— А помнится, и мне снимал, а?
— За чесь чесью всегды расплачиваются!
— Стало быть, я должен почин-то сделать, снять-то ее, а?
— А для ча и не снять бы? Не свыше нашего брата; что в лисьей-то шубе — так ведь энто, Петр Матвеич, дело-то переходчивое: сегодня в шубе, а завтра в той же дерюге — не узнано!
— А ты, ровно, Иван Николаич, покруглей выглядишь: и ей-богу, чать, рыбку почал? — с насмешкой спросил Петр Матвеевич, не обратив внимания на замечание своего противника.