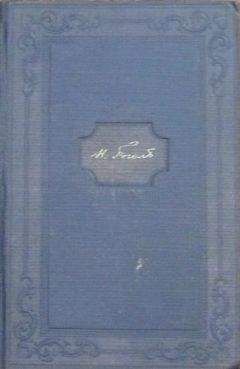Книга Гоголя вызвала единодушный отпор в разнообразных слоях общества. Только в самом узком кругу единомышленников раздались сочувственные отклики, да Булгарин злорадно приветствовал обращение недавнего врага на „истинный“ путь. В официально-бюрократических и церковных кругах книга не была принята — как слишком независимая, говорившая всё же своим языком, а не языком казенных прописей. Официальной России показалась опасной своеобразная гражданская тревога Гоголя, а попытка давать уроки правительству воспринята была как дерзость, и книга могла появиться в свет только с цензурными купюрами. Неприемлемой оказалась книга и для славянофильских кругов, так как во многом выходила из рамок славянофильской догмы.
Наконец, само собою разумеется, что вся передовая общественность отвергла с негодованием книгу, реакционную в самом своем существе, звавшую назад, а не вперед. Голосом этой общественности стал Белинский в своем знаменитом гневно-обличительном письме к Гоголю из Зальцбрунна — письме, в котором В. И. Ленин видел „одно из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору“ („Из прошлого рабочей печати в России“, 1914).[16]
Чем же объяснить, что великий художник-обличитель, один из вождей народа „на пути сознания, развития и прогресса“, — оказался в стане реакции? Раз навсегда нужно отбросить представления, будто „Выбранные места“ лишь выразили теоретически то, что всегда заключалось в гоголевской творческой практике, что теми же самыми идейными стимулами — желанием „служить своему классу“ — вызваны и „Вечера“, и „Ревизор“, и „Выбранные места“, и обе части „Мертвых душ“. Такому упрощенному истолкованию творческого пути Гоголя противоречит всё: и сравнительный литературный анализ, обязывающий отделить Гоголя от хора официально-благонамеренной литературы, и показания осведомленных современников (Анненков), и неопровержимые данные о кризисе, действительно пережитом Гоголем в начале 40-х годов и, наконец, определение этого кризиса самим Гоголем: „крутой поворот“.
Причины этого „поворота“ сложны и многообразны. В конечном счете он обусловлен всей российской социально-экономической действительностью, неразвитостью общественных отношений в России, недостаточной организованностью прогрессивных демократических сил. Но эти общие причины не объясняют до конца индивидуального случая гоголевской позиции: в тех же условиях Белинский и Герцен пошли по иному пути. Нельзя преуменьшать значение среды, окружившей Гоголя и боровшейся за него; нельзя преуменьшать всей совокупности впечатлений личной его жизни. В свое время серьезное внимание на эти данные обратил Чернышевский, располагавший значительно меньшим биографическим материалом, чем наше время. Внутренняя логика развития Гоголя — выработка в нем общих теоретических основ мировоззрения протекала в конкретной обстановке, игравшей большую и важную роль. Травля после „Ревизора“, бегство из России, впечатления капиталистического Запада и „уединенного“ Рима, смерть Пушкина, чувство оторванности от родины, наконец, целый сплав различных, но, в общем, одинаково направленных влияний — при почти полном отсутствии противодействий — делали свое дело. К личным влияниям на Гоголя нужно отнестись со всей серьезностью. В борьбе за Гоголя реакция была представлена значительными силами. Три имени должны быть здесь названы в первую очередь: Жуковский, Плетнев и Языков. В сознании Гоголя связь с ними была продолжением давней связи с Пушкиным и его кругом. На самом деле это было далеко не так: Жуковский был для Пушкина литературным учителем и лично-близким человеком, но отнюдь не идейным руководителем; основы религиозного идеализма Жуковского были чужды Пушкину; между тем, после смерти Пушкина и в годы общения с Гоголем они оформлялись в тот пиэтизм „протестантского“ типа, который в самом Жуковском, а еще больше в Гоголе своеобразно сочетался с православно-церковными настроениями. В кругу тех же тенденций были Плетнев и Языков, оба к началу 40-х годов существенно отошедшие от настроений 30-х годов. С Языковым Гоголь сблизился как равный; Жуковский оставался для него авторитетом и образцом, но известное расстояние между ними всегда оставалось; что же касается Плетнева, то он активно вмешивался в личную идейную и литературную жизнь Гоголя. Именно Плетнев был непосредственным вдохновителем гоголевской „Переписки с друзьями“. 2 октября 1844 г. Плетнев написал Гоголю письмо обличительное и в то же время увещательное: он призывал Гоголя стать на новый писательский путь. „Ты, не прерывая главных своих, обдуманных уже творений, — писал Гоголю Плетнев — должен строже определить себе, как надлежит тебе содействовать развитию в человечестве высшего религиозного и морального настроения… Из гения-самоучки — убеждал Плетнев — ты возвысишься, как Гете, до гения-художника и гения-просветителя“. Само по себе письмо Плетнева, конечно, недостаточно для объяснения „крутого поворота“ в Гоголе, но включенное в сложный ряд воздействий, оно должно быть учтено как оказавшее свое влияние. С другой стороны — активно боролись за Гоголя и пытались воздействовать на него московские славянофилы, и энергичнее всех молодой Константин Аксаков, а также их противники в подробностях и союзники по существу — представители „официальной народности“ Погодин и Шевырев. Постепенное охлаждение давних личных отношений с Погодиным как бы уравновешивалось новой дружбой с Шевыревым; совместные влияния Аксаковых и Шевырева не были безрезультатны. Не подчиняясь всецело славянофильскому учению, Гоголь проникся идеями национального миссионизма и идеализацией патриархальных основ общественной жизни.
Противодействие силам реакции, объединенным в борьбе за Гоголя, было явно недостаточно. Оно представлено было в сущности одним Белинским. Белинский боролся за Гоголя не в одних своих печатных статьях, — он пытался лично воздействовать на Гоголя, пытался оторвать его от круга „Москвитянина“, но эти попытки были безуспешны. Анненков и Прокопович, отчасти примыкавшие к Белинскому, были недостаточно активны и для Гоголя недостаточно авторитетны. С Герценом Гоголь так и не встретился.
VII.
Новые выступления Гоголя были восприняты современниками как отречение от прошлого писательского пути и даже от художественной литературы вообще. Между тем, Гоголь не только продолжал сознавать себя писателем, но весь строй его новых идей имел непосредственное отношение к замыслу продолжения „Мертвых душ“. В течение 1843–1844 гг., когда забота о первом томе и о собрании сочинений была уже в прошлом, и Гоголь мог сосредоточиться на втором томе, он, отвечая на нетерпеливые вопросы друзей, то и дело вынужден был сознаваться, что „Мертвые души“ „и пишутся и не пишутся“, и что причина медлительности на этот раз — в нем самом. „Сочиненья мои так тесно связаны с духовным образованием меня самого“ — пишет он Плетневу 6 октября 1843 г. — „и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее, сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений“. Продолжение „Мертвых душ“ всё теснее связывается в сознании Гоголя с новыми его идеями и прежде всего — с идеей личного самосовершенствования, в котором он, — как впоследствии Лев Толстой, — мечтает найти разрешение не только личных, но и общественных задач.
С этой идеей непосредственно связана была другая — славянофильская — идея об особых национальных свойствах русского человека, которые могут возродить последнего „подлюку“, если в нем только есть „крупица русского чувства“. Отсюда возникают две задачи в дальнейших частях „Мертвых душ“: с одной стороны, противопоставить пошлым героям первого тома — прекрасные русские характеры (обещания эти были даны уже в 11-й главе первого тома), с другой стороны — показать возможность внутреннего перерождения даже для Чичиковых и Плюшкиных.
Но Гоголь всё еще мечтает остаться верным принципам реалистического искусства. В 1845 г. он уничтожает всё написанное им из второго тома за то, что, изображая прекрасное, он не сумел указать „путей к прекрасному“, то есть не внес в свои изображения должной психологической убедительности, притом в идейно наиболее важном для него пункте, в изображении перерождения человека. Он стремится не только расширить сферу своих изображений, но и сделать их наиболее верными действительности („верным зеркалом, а не карикатурой“). Еще продолжая жить на чужбине, он всеми доступными ему средствами стремится лучше узнать русскую жизнь, не надеясь, как раньше, на один запас уже сделанных наблюдений и на способность „угадывать человека“. Он просит родных и знакомых присылать ему побольше материалов — бытовых и психологических („портреты“); он изучает „статистику России“ по книжным источникам; он жадно читает произведения русских писателей „натуральной школы“ и прежде всего — богатого бытовым материалом Даля. Наконец, он прекращает вовсе свои скитания по Европе и, осуществив путешествие в Палестину, с которым были связаны большие, но не сбывшиеся надежды на „обновление сил, бодрость и рвение“, окончательно возвращается осенью 1848 г. в Россию.