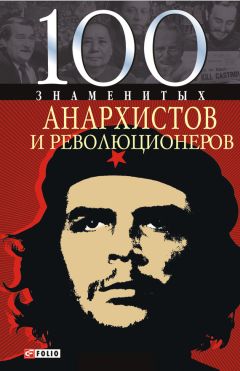На эстраде за зеленым бархатным занавесом разместилась перевязочная. Тут к потолку была подвешена кероспнокалильная лампа с белым асбестовым колпачком и примусным насосом на пузатом резервуаре. Вчера еще эта лампа висела на чугунном кронштейне у входа в ресторан.
Посредине стоял бильярдный стол, накрытый белой простыней. И такие же простыни висели вокруг стола. На верхнем этаже, из кухни, до потолка облицованной кафельными плитками, сделали баню. Сюда из кухни нижнего этажа санитары приносили на березовом шесте огромные красной меди кастрюли с кипятком.
В госпитале у Тимы не было ни минуты свободного времени.
Каждому раненому хотелось подольше задержать мальчика у своей койки.
Ему первому, а не санитару, протягивали термометр и озабоченно спрашивали:
— А ну, скажи цифру?
После перевязки сообщали радостно:
— Правильный совет давал: когда глаза шибко зажмуришь — верно, не так больно.
Тима научился точно отмеривать лекарство, бережно вливать его между сухих губ раненого, сматывать в рулончики выстиранные бинты, долго о чем угодно рассказывать шепотом страдающим от тяжелого ранения солдатам, которые забывали о боли, слушая в полузабытьи Тиму, узнавая в его голосе голоса своих ребят.
Его требовали тоскующие накануне операции. И Тима объяснял папиными словами, что это вовсе не страшно, а даже очень полезно и необходимо для здоровья, и восторженно расхваливал хлороформ, который так колдовскп усыпляет человека.
Когда отец и доктор Шухов обходили койкп с ранеными, санитар возил за ними столик на колесиках. На столе стояли склянки с лекарством и в блестящей никелированной коробке медицинские инструменты.
На докторе Шухове была офицерская форма с черной полоской на погонах, а на груди Георгиевский крест.
С ранеными он обращался грубо, сердито тараща опухшие, с темными веками глаза. Он отрывисто командовал, все равно как унтер на плацу: "Сесть! Дышать! Молчать, пока не спрашивают! Чего рожу кривишь? Больно? Не баба! Солдат должен терпеть!"
Уединившись с отцом в перевязочной, он говорил, сморкаясь в платок защитного цвета:
— Ампутированных нужно держать отдельно. Они плохо влияют на тех, кто после излечения должен будет снова продолжать службу. Хотя после госпиталя солдат — дрянь, с мозгами набекрень, наслушаются тут от студентиков политики. Вообще я считаю, что данная обстановка внушает раненым нежелательные мысли.
— Позвольте, но нельзя же было дольше держать их на путях в холодных теплушках!
— Можно и должно! В окопах будет хуже!
Закурив тонкую дамскую папироску и дыша отцу в лицо дымом, спрашивал угрожающе:
— Сие заведение принадлежит господину Пичугину?
Так? Значит, нарушен принцип священной и неприкосновенной частной собственности. Солдаты это понимают, наматывают на ус и, следственно, по выходе из госпиталя могут покуситься и на мою и на вашу собственность. Вот какие развратные выводы они сделают!
Налив в мензурку с широким горлышком спирт и разбавив его из бутылки дистиллированной водой, Шухов пил, сделав губы дудочкой, шумно выдыхая из себя воздух и задумчиво почесывая седую бровь.
— Я ведь, батенька, человек подневольный, — жаловался он. — В случае чего снова на фронт. В армии либералов не терпят!
— Вот, сынок, в каких дворцах пищу жрали, — говорил Тиме солдат Егоров. — Три этажа трактир, две кухни, а народ голодует.
— А вы за что «Георгия» получили?
— Так, за дурость. Ведь кто германский солдат? Тоже мужик, только он вместо хлеба картошку жрет. Вся разница. А я его за это в брюхо штыком. Ребята брататься полезли, а я в окопе остался. Совестно в глаза глядеть.
Взводный говорит: "Молодец, Егоров, значит, презираешь врага?" "Сочувствую, говорю. Да что ему до меня, если завтра друг на дружку снова погонят". — Ну, взводный меня по морде. Я стерпел до первого боя, а там пойми кто его, раз кругом пули свищут.
— Страшно на войне?
— С какой стороны подойти. Я вот на медведя с ножиком ходил. Тогурские мы! Их в тайге много. Там я человек, а он, одним словом, медведь. Но я его не боюсь, поскольку мне с него польза. А там что? Ты бьешь, тебя бьют, а для ча? Ну и, конечно, боязно с того, что зазря.
На соседней койке лежал с ампутированной ногой ротный писарь Тимохин. Лысый, с толстым синим носом и отвисшими губами, он кричал на Егорова пронзительным голосом, стараясь, чтобы все его слышали:
— Ты же подлец: кавалер, герой, а рассуждаешь как инородец! Германец хочет Россию покорить!
— А чего ему нас корить, когда он сам вшивый?
— Лютеранцы церкви порушат.
— Токо у них и делов. Вот обожди, поддадут они своему кайзеру, как мы Николашке…
— Престол пустой не бывает!
— Башка у тебя пустая, вот что.
— Я патриот!
— Патриот, а зачем ногу под колесо фуры сунул? До дому захотел, сбруей торговать?
— А он и в писаря-то попал за взятку, — сказал слепой рыжий солдатик. И пожаловался: — Курю, а без видимости дыма во рту одна горечь.
— А ты видел, как я взятку давал? — визжал пксарь.
— Когда глаза были, все видел, но понятий не имел.
— А теперь имеешь?
— Пойду по деревням правду говорить. Узнаешь, — спокойно и угрожающе произнес слепой.
— Бунтовать, да? — Тимохин даже приподнялся.
— Валяй, валяй, скачи на одной ноге до дежурного офицера, он тебе семишник за услугу отвалит.
Вокруг койки, где лежал артиллерийский наводчик Саковников, всегда толпились раненые.
До войны Саковников работал на Урале литейщиком.
Худой, тощий, с впалыми глазами, он говорил сиплым шепотом, прижимая ладонь к забинтованной шее. У него было прострелено горло и ампутированы обмороженные ступни.
— Мужику что надо? — вопрошал он слушателей строго, как учитель. Верно, землю. А рабочему? — Правильно, заводы, которые он собственноручно соорудил.
Взяли. Дальше что? А дальше, ребята, самое такое, — кто у власти? Если мой хозяин да твой помещик, что ж, они хомут на себя оденут? Нет, тебя запрягут и дальше по старой дорожке погонят. Значит, чего сейчас главное? А главное сейчас такое, кто сверху будет: мы или они?!
— Дак революция же сейчас! — беспокойно восклицал однорукий пулеметчик Орлов. — Царя нет!
— Учитываю, — важно произносил Саковников, — с того и разговор веду, что царя нет, а хомут остался…
Самая молчаливая палата была та, где лежали раненные в лицо, тяжко изуродованные люди, те, у кого оторваны нижние челюсти, срезаны щеки, носы и кости черепа обтянуты только тонкой глянцевитой розовой пленкой. Здесь же помещались раненные в позвоночник, недвижимые, потерявшие слух, речь, зрение.
После того как один раненый с оторванной челюстью удавился ночью на поясном ремне, привязав его к спинке кровати, в этой палате назначили постоянное дежурство.
Санитар Вихров, веселый кудрявый паренек, отличный балалаечник, дня через три-четыре сказал Тиме:
— Попроси отца, пусть сменит: не могу больше. — И прошептал с ужасом: Там один безрукий, безногий, глухонемой взял в зубы карандаш и написал на бумаге, которую я перед ним держал: "Отрави, сжалься". Не могу я так больше, не могу!..
В госпиталь приходили с подарками от городской думы расфранченные дамы-патронессы и делегаты из офицерского союза.
Однажды после того как солдаты из рук дам получили белые сайки и пакеты с леденцами, делегат офицерского союза произнес речь о том, что сейчас свободная Россия, верная своему союзническому долгу, жертвует кровью лучших своих сынов на фронте. Но так как большевики — немецкие шпионы ведут агитацию против войны, хорошо, если бы ходячио раненые в воскресенье пошли по городу с лозунгами: "Война до победного конца!" Это произведет ободряющее впечатление на население.
— Гражданин прапорщик, дозвольте вопрос?
Егоров поднялся на локте и спросил умильно:
— А лежачим петьзя народу представиться?
— Георгиевский кавалер? Грамотный? По записке речь сказать можешь? обрадовался офицер.
— Я ке про себя, — ухмыльнулся Егоров. — Тут у нас солдатик есть интересный. Без ног, без рук, глухонемой, но ловкач, берет в зубы карандаш и пишет. — Протягивая офицеру скомканную бумажку, дрожащим от злобы голосом крикнул: — Только ты бумажку там прочти и не давись словом!
— Ты, братец, какое-то безобразие хочешь учинить?
— Ладно, — зловеще сказал Егоров, — я тебе, ваше благородие, бумажку все равно в руки бы не дал. Ходячим стану, на площадь ее вынесу и всем людям покажу.
Я их за войну так сагитирую, что и ружьишек всем не хватит для первой надобности!
С этого дня в госпиталь стал по вечерам наведываться штаб-ротмистр Грацианов. Вызывая по очереди в операционную санитаров, сиделок и сестер милосердия, закрыв на ключ дверь, он допрашивал их.