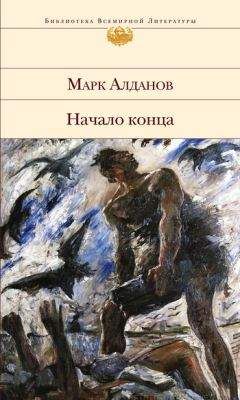И вот, однако, идет уже третий день из пяти блаженных, а они ни разу даже не виделись. То он телефонировал, что заканчивает картину к выставке, то прислал письмо, что должен явиться к высокопоставленному лицу, с которого будет писать портрет, то прислал цветы без всякого письма и сам не пришел.
– Какой дурак! – терзается Векина.
– Ведь должен же он понять, что такое счастье, может быть, никогда и не повторится, потому что каждая тетка умирает один раз в жизни! Или это только тактика, чтобы подразнить. Вот нашел тоже время!
– И чего вы, барынька, хандрите? Ну, чего вам не хватает? – усердствовал доктор Катышев.
– Вот пристал! – думает Векина. – Начать разве с ним кокетничать назло Шатову.
– Барынька, милая! Ну, чего вы, право. Какие у вас ножки хорошенькие! Ну, можно ли с такими ножками хандрить. Да будь у меня такие ножки, да я бы не знаю что…
Векина представила себе толстого, лысого Катышева в серебряных туфельках и чулках телесного цвета, и ее немножко затошнило.
– А что, небось, нравятся ножки? – пересилила она себя. – Поцеловать хочется?
«Это все из-за тебя, все из-за тебя, – мысленно говорила она художнику. – Вот на, получай, вот тебе!»
– Ну, поцелуйте же, доктор!
Доктор осклабился, закряхтел, встал на колени и, взяв ногу Векиной между двумя ладонями, звонко поцеловал над бантиком туфли.
– Прямо не ножка, а бланманже!
«Какая гадость! Точно операцию делает! – вся съежилась Векина. – Вот до чего ты довел меня! Ты! Ты! Ты! Ага! Не нравится? Так получай же еще!»
Она вдруг лукаво улыбнулась и откинула рукав платья:
– Посмотрите, какая у меня на локте ямочка.
Доктор вытянул губы трубой и нагнулся, но Векина отдернула руку:
– Вы себе слишком много позволяете.
Доктор выпучил глаза и так и остался с вытянутыми губами.
Через полчаса после его ухода пришел художник Шатов.
– Пожалуйста, не оправдывайтесь, – холодно остановила его Векина. – Мне все равно. Тем более что я сама должна кое в чем признаться вам.
– ?
– Я увлеклась другим.
– ?
– Вы бы убедились сами, если бы пришли на час раньше. В сущности, я рада, что все между нами кончилось к обоюдному удовольствию.
Шатов немножко опешил, и губы у него слегка задрожали, впрочем, ровно настолько, насколько это полагается опешившему человеку.
– Так вы находите, что… к обоюдному?
Векина засмеялась самым ироническим смехом, какой только могла придумать, и молча вышла из комнаты.
Она слышала, как Шатов надевал в передней калоши, как, надев их, он еще подождал чего-то в передней, и когда дверь захлопнулась, она неожиданно укусила себя за руку и заплакала.
Вечером в постели стала сочинять письмо. Сначала так:
«Милостивый государь! Мне бы хотелось получить обратно мой портрет…» Потом так
«Ведь мы расстались друзьями, не правда ли? Пусть мой портрет послужит залогом наших простых дружеских отношений…»
И, наконец, так:
«Евгений! Я люблю тебя! Пришли мне твой портрет…»
Потом заснула.
Утром посыльный принес букет черных ирисов.
– Письма нет?
– Нет!
Она целовала каждый венчик холодных черных цветов и улыбалась дрожащими губами:
– Так не уходят! Нет! Это не прощальные цветы. Они черные оттого, что он тоскует, а тоскует оттого, что любит! Осталось еще два дня свободы, – нельзя терять ни минуты.
– Евгений! – говорила она в телефон. – Евгений! Прости меня! Это неправда, я не люблю другого. Я наклеветала на себя, чтобы отомстить тебе. Отчего я одумалась? От черных цветов. Черный ирис сказал мне, что ты тоскуешь и любишь. Я люблю черный ирис! Понимаешь? Черный ирис! Только черный ирис! Нет, нет, я не сумасшедшая, я только счастливая.
Он обещал прийти, и она целый час металась между двумя зеркалами в гостиной и в спальне. Завязала ирисы яркой желтой лентой.
– Смейтесь, ирисы!
В три часа позвонили, и в ожидании она закрыла глаза, но когда открыла их – увидела свежевыбритую физиономию доктора Катышева.
– Ну, как сегодня, милая барынька? Беспокоился о здоровье, зашел проведать.
– Ничего… сегодня хорошо. Только я очень занята… – лепетала Векина.
Катышев окинул взглядом комнату.
– Как вы красиво завязали ленту на цветы. Бездна вкуса!
– Только не трогайте! – встрепенулась Векина. – До этих цветов нельзя дотрагиваться, – они священны. Они мне дали столько счастья, что… словом, не ваше дело.
Катышев вдруг умилился.
– Родная моя! – засюсюкал он. – Детонька моя! Да неужели же так угодил!
Векина вся похолодела.
– Что?.. Что вы говорите?
– Неужели угодил цветами? А я еще не хотел брать, что черные, да приказчик уломал. Самые, говорит, модные в сезон. Ну, модные так модные, давай. Да вы что?
Векина стояла вся бледная и задыхалась.
– Да как вы смели! Подлый вы человек! Нахал бесчестный! Как вы смели послать цветы без письма, без карточки!
– И чего вы, барынька, ей-богу! – испугался Катышев. – Я же думал, что вы и сами догадаетесь, от кого, после вчерашнего, гм…
– Уходите вон! Как вы смеете так оскорблять женщину? Я пожалуюсь мужу, он расправится с вами. Уходите вон, негодяй!
Испуганный Катышев спускался с лестницы на цыпочках, – он не смел шагать целой ногой, – когда встретил подымающегося художника Шатова.
Художник весело посвистывал и нес большой букет черного ириса.
– Голубчик! – схватил его за руку Катышев. – Вы к ней? И с цветами? Бросьте, как другу говорю, – бросьте. Это такая женщина! Это – святая женщина… Это – сама добродетель… Это – зверь. И, по-моему, у нее даже тут неладно.
И он постучал по лбу пальцем.
– Вы находите? – насторожился художник.
Подумал немножко и стал спускаться вместе с доктором.
После генеральной репетиции подошла ко мне одна из актрис, молоденькая, взволнованная…
– Простите, пожалуйста… ведь вы автор этой пьески?
– Я.
– Пожалуйста, не подумайте, что я вообще…
– Нет, нет, я не подумаю, что вы вообще, – поспешила я ее успокоить.
– У меня к вам маленькая просьба. Очень, очень большая просьба. Впрочем, если нельзя, то уж ничего не поделаешь.
Она не то засмеялась, не то всхлипнула, а я вздохнула, потому что угадывала, в чем дело: наверное, попросит прибавить ей несколько слов к роли. Это – вечная история. Всем им так хочется побольше поговорить!
Актриса покусала кончик носового платка и, опустив глаза, спросила с тихим упреком:
– За что вы его так обидели? Неужели вам ничуть-ничуть не жаль его?
– Кого? – удивилась я.
– Да вот этого рыжего молодого человека в вашей пьесе. Ведь он же, в сущности, симпатичный. Конечно, он не умен и не талантлив. Но ведь он же не виноват, он не злой, он даже очень милый, а вы позволили этому противному картежнику обобрать его до нитки. За что же?
Я смутилась.
– Послушайте… я не совсем понимаю. Ведь это же такая пьеса. Ведь если бы этого не было, так и пьесы бы не было. Понимаете? Это ведь и есть сюжет пьесы.
Но она снова покусала платочек и снова спросила с упреком:
– Пусть так, пусть вы правы. Но неужели же вам самой не жаль этого бедного, доверчивого человека? Только скажите – неужели вам не больно, когда у вас на глазах обижают беззащитного?
– Больно! – вздохнула я.
– Так зачем же вы это позволяете? Значит, вам не жаль.
– Послушайте! – твердо сказала я. – Ведь это же я все сама выдумала. Понимаете? Этого ничего нет и не было. Чего же вы волнуетесь?
– Я знаю, что вы сами выдумали. Оттого-то я и обращаюсь со своей просьбой прямо к вам. Раз вы выдумали, так вы сможете и поправить. Знаете что: дайте ему наследство. Совершенно неожиданно.
Я молчала.
– Ну, хоть небольшое, рублей двести, чтоб он мог продолжать честную жизнь, начал какое-нибудь дело. Я ведь не прошу много – только двести рублей на первое время, – потом он встанет на ноги, и тогда за него уж не страшно.
Я молчала.
– Неужели не можете? Ну, полтораста рублей.
Я молчала.
– Сто. Сто рублей. Меньше трудно – ведь вы его привезли из Бердянска. Дорога стоит дорого даже в третьем классе. Не можете?
– Не могу.
– Господи, как же мне быть! Поймите, если бы я могла, я бы ему из своих денег дала, но ведь я же не могу! Я бы никогда не стала унижаться и просить у вас, но ведь только вы одна можете помочь ему! А вы не хотите. Подумайте, как это ужасно. Знаете, говоря откровенно, я никогда не думала, что вы такая жестокая. Положим, я несколько раз ловила вас на некрасивых поступках: то вы мальчишку из меблированных комнат выгнали и перед всем театром показали, какой он идиот. То расстроили семейное счастье из-за брошки, которую горничная потеряла. Но я всегда утешала себя мыслью, что просто нет около вас доброго человека, который указал бы вам на вашу жестокость. Но чем же объяснить, что вы и теперь не хотите поправить причиненное вами зло?