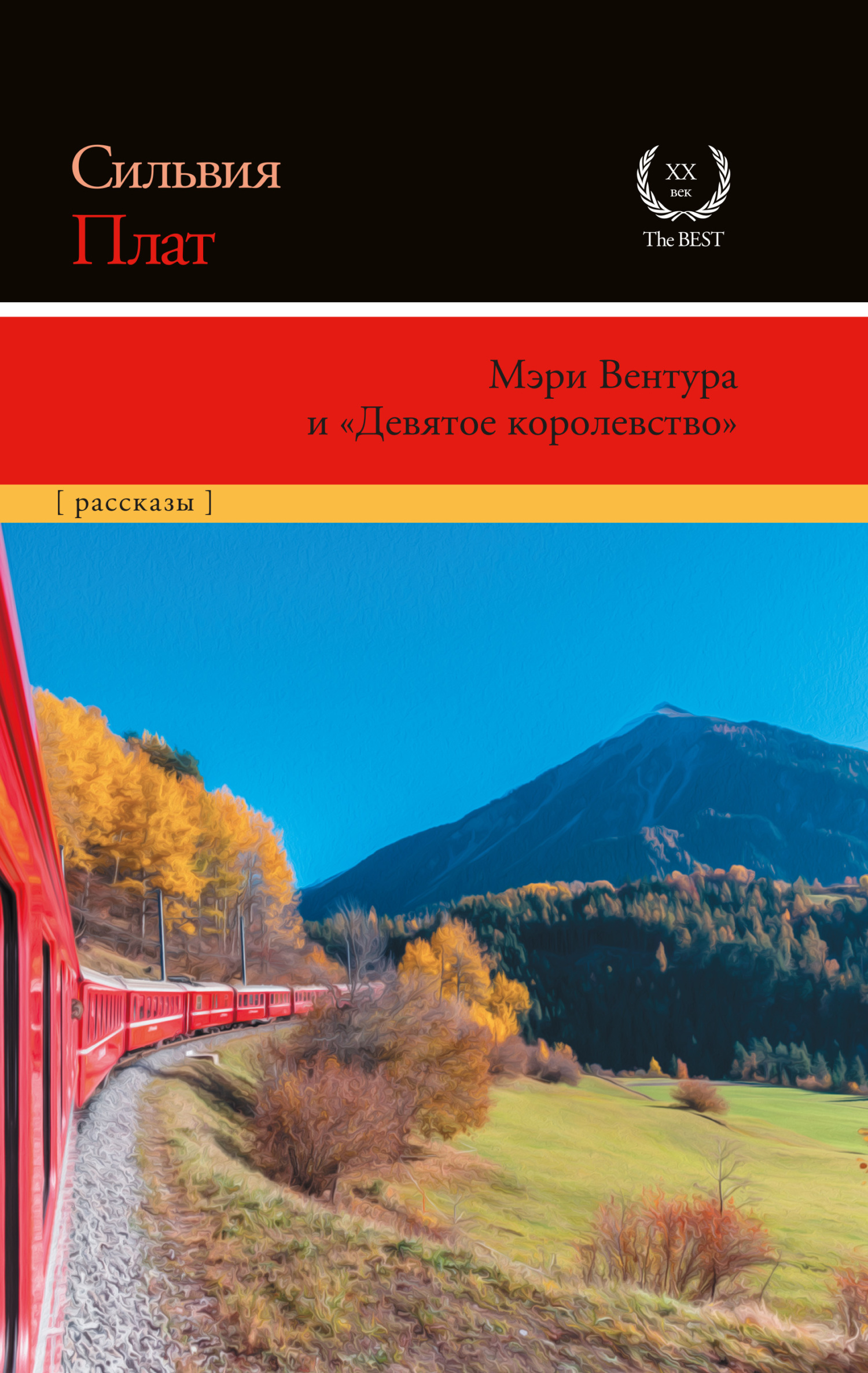медового месяца, под утро, глубокий, без сновидений сон Агнес был нарушен яростным, судорожным движением правой руки Гарольда. В мгновенном испуге Агнес растолкала мужа и нежно, по-матерински спросила, что случилось, решив, что тот отбивался от кого-то в кошмарном сне. Но дело было в другом.
– Я только-только начал играть «Императорский» концерт [15], – проговорил муж сонным голосом. – Должно быть, поднял руку для первого аккорда, когда ты меня разбудила.
Поначалу живые и яркие сны Гарольда забавляли Агнес. Каждое утро она спрашивала мужа, что ему снилось, и он подробно, во всех деталях пересказывал ей свой сон, словно речь шла о важном, реально имевшем место событии.
– Меня пригласили в Библиотеку Конгресса на встречу с американскими поэтами, – с удовольствием говорил он. – Там были Уильям Карлос Уильямс в отличном пальто из грубой шерсти, и еще тот, кто писал о Нантакете [16], и Робинсон Джефферс, похожий на американского индейца, как на фотографии в антологии, и, наконец, Роберт Фрост – он приехал на седане и сказал что-то остроумное, что меня рассмешило.
Или вот еще:
– Мне приснилась удивительная пустыня, вся красная и лиловая – каждая песчинка в ней сверкала, как рубин или сапфир. Белый леопард в золотых пятнах стоял над ярким голубым ручьем – задние лапы на одном берегу, а передние на другом, – и небольшое семейство муравьев перебиралось через ручей по его спине. Взбираясь по хвосту, они ползли дальше и спускались на землю, пройдя у него меж глаз.
Сны Гарольда были настоящими миниатюрными произведениями искусства. Бесспорно, у дипломированного бухгалтера с ярко выраженными литературными предпочтениями (вместо ежедневных газет он читал Гофмана, Кафку и ежемесячные астрологические журналы) было к тому же поразительно живое, красочное воображение. Со временем привычка мужа относиться к своим снам как к неотъемлемой части дневного существования стала раздражать Агнес. Она чувствовала себя лишней. Получалось, что Гарольд проводит треть жизни в окружении знаменитостей или невероятных, мифических существ в зажигательной, дразнящей нервы атмосфере, из которой Агнес навечно изгнана и знает о ней только по слухам.
Проходили недели, и Агнес начала задумываться. Хотя она ни в коем случае не собиралась признаваться в этом Гарольду, ее собственные сны, если они и были (а это случалось не так уж часто), пугали ее: как правило, темные, слабо мерцающие пейзажи и зловещие, неясные фигуры. Она не помнила свои кошмары в деталях, они рассеивались при пробуждении, но весь день она остро ощущала удушливую, тяготившую ее, наэлектризованную атмосферу. Агнес стыдилась делиться с Гарольдом этими отрывочными кошмарными видениями из страха, что они будут казаться слишком ущербными на фоне его мощного воображения. Ее редкие сны – их можно было по пальцам пересчитать – представлялись такими прозаичными, такими скучными в сравнении с царственным, барочным великолепием снов Гарольда. Как можно было, например, сказать ему: «Я падала во сне», или «Мама умерла, и мне было очень грустно», или «Что-то преследовало меня, а я не могла бежать»? Истина заключалась в том, с болью осознавала Агнес, что ее сны заставили бы зевать самого усердного и доброжелательного психоаналитика.
Куда делись, размышляла тоскующая Агнес, золотые детские деньки, когда она верила в фей? Тогда, по крайней мере, в ее снах происходили события, и не такие скучные и уродливые. Когда ей пошел седьмой год, с грустью вспоминала она, ей приснилась сказочная страна за облаками, где на деревьях росли шкатулки желаний, похожие на кофемолки, и стоило сорвать такую шкатулку, повернуть девять раз ручку и прошептать в боковое отверстие желание, как оно исполнялось. В другой раз она увидела во сне три волшебные травинки у почтового ящика в конце их улицы: травинки сверкали, как мишура на елке – красная, синяя и серебряная. Еще в одном сне они с младшим братом Майклом стояли в зимних комбинезонах у крытого белой черепицей дома Доди Нельсона. Узловатые корни клена змеей вились по твердой бурой земле; на Агнес были шерстяные варежки в красно-белую полоску, и когда она протягивала сложенную чашечкой руку, в нее падали бирюзово-голубые снежинки. Но это было почти все, что помнила Агнес из своего детства, более творческого, чем ее нынешнее существование. В каком возрасте щедрый волшебный мир снов покинул ее? И за что?
А тем временем из Гарольда сны лились, как из рога изобилия, и он пересказывал их ей за завтраком. Однажды, еще до встречи с Агнес, в гнетущие, скверные времена его жизни, Гарольду приснилось, что по кухне бежит обожженная рыжая лиса: шерсть ее обуглилась дочерна, несколько ран кровоточили. Позже Гарольд рассказывал по секрету, что в более благоприятное время, вскоре после женитьбы, рыжая лиса вновь ему привиделась: чудесно исцеленная, с роскошным мехом, она преподнесла ему флакон черных чернил «Квинк». Сны про лису Гарольд особенно любил, и они часто повторялись. Как и сон про гигантскую щуку.
– Был такой пруд, – изрек Гарольд в одно душное августовское утро, – в котором мы с кузеном Альбертом обычно ловили рыбу, в нем водилось полно щук. Прошлой ночью я тоже там рыбачил, и мне попалась на крючок огромнейшая щука – такую и представить себе невозможно. Должно быть, этот экземпляр был прапрапрадедушкой всех остальных. Я тянул, и тянул, и тянул эту щуку, но ей конца не было.
– А мне в детстве, – вступила Агнес, с мрачным видом размешивая сахар в черном кофе, – приснился Супермен – такой, как в цветном кино. Костюм синий, накидка красная, волосы черные – он был красив, как принц; мы летали с ним, и я чувствовала, как ветер свистит в ушах, а на глазах выступают слезы. Мы летели над Алабамой. Я знала, что это Алабама, потому что земля выглядела как карта, и на ней, прямо поверх больших зеленых гор, было написано: «Алабама».
На Гарольда рассказ произвел большое впечатление.
– А что тебе снилось этой ночью? – спросил он. В его тоне слышалось чуть ли не раскаяние: сказать по правде, собственные сны настолько его занимали, что он не мог представить себя в роли слушателя и никогда не расспрашивал жену о том, что снится ей. Теперь Гарольд смотрел на хорошенькое взволнованное личико с новым интересом: после медового месяца он впервые осознал, какая отрада для глаз это прелестное существо напротив за столом.
На мгновение Агнес привел в замешательство заданный из лучших побуждений вопрос мужа: она давно оставила позади то время, когда серьезно задумывалась, не спрятать ли в шкафу книгу Фрейда, чтобы укреплять свои позиции чужими снами и тем самым каждое утро подогревать интерес мужа к себе. И теперь, отказавшись от прежней сдержанности, она приняла отчаянное решение признаться в своей ущербности.
– Мне ничего не снится, – произнесла Агнес тихим, печальным голосом. –