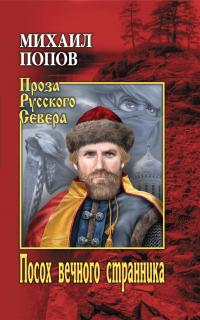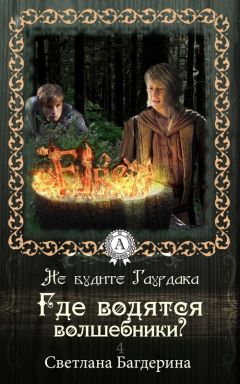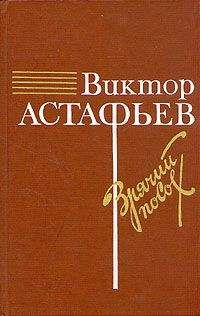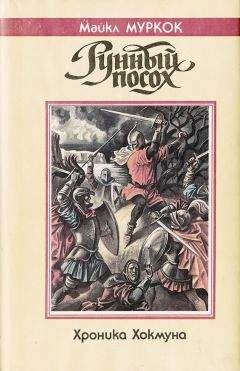располагался за уступом стены. Ночничок, приглушённый реостатом, не достигал напрямую этого места, но Кай, обвыкшийся в темноте, не сбился. Он тронул Дебальцева за плечо. Тот мигом очнулся, что-то бормотнул или кашлянул и тотчас же поднялся.
В такую рань выходить из пещеры Дебальцев разрешил только Каю. Это произошло после того, как Кай нарушил его запрет. «Мимо меня ни одна мышь не проскользнёт», – сказал Дебальцев, предупреждая население пещерного городка. А Кай возьми да и проскользни. Не обнаружив Кая в утреннем застолье, Дебальцев тотчас же кинулся на стройку. Кай был, конечно, там. Дебальцев едва не с кулаками набросился на него. Таким Кай капитана ещё не видел. Лицо пятнами, усы дыбом, губы белые. Разъярённый, бешеный. Так, видать, зацепило, что его, мужика, военного человека, провёл юнец. Но ведь и Кай был уже не мальчик. В ответ на ругань и ярость Дебальцева он не проронил ни слова. Но с такой неукротимой силой вогнал топор в бревно и так исподлобья глянул на Дебальцева, что тот смешался. Вечером, когда страсти улеглись, Дебальцев подошёл к Каю и примирительно протянул руку:
– Буди, когда пойдёшь. Лады?
– Лады, – ответил Кай. Он тоже осознал. На том и помирились.
Пока Дебальцев натягивал комбинезон, Кай вышел наружу. Было ещё сумрачно, но уже светало. Пелена пепла и сажи зыбилась, как клочья тумана, виденные в каком-то старом фильме. Лопатки Кая задело холодком. Он зябко поёжился. Потом, как всегда, на выходе повернулся направо, где на уступе высился обетный крест. Правая рука Кая привычно потянулась ко лбу, пальцы уже сжимались в щепоть, чтобы осенить себя крестным знамением, глаза достигли креста и…
Через минуту-другую наружу вышел Дебальцев. Он на ходу застёгивал пряжку. Старая сыромятина была разношена, и он никак не мог затолкать конец ремня в кожаное кольцо. Завершить эту мучительную операцию Дебальцев не успел. Взгляд его наткнулся на Кая. Надломленная фигура парня, его застекленевшие глаза насторожили капитана. Взгляд его метнулся в ту сторону, куда, не мигая, смотрел Кай. Капитан слыл бывалым мужиком, но увиденное на верхотуре и его потрясло. На обетном кресте был распят человек. Зажмурив крепко-накрепко глаза, Дебальцев сжал кулаки, словно взял себя в руки, потянул ноздрями сырой воздух и шагнул к Каю. Кай стоял неподвижно, словно окаменел. Дебальцев мягко опустил ладонь на правое плечо, другой рукой взялся за подмышку. Сердце Кая не билось. Дебальцев осторожно сжал это закоченевшее тело и резко встряхнул. Кай очнулся, тягуче со всхлипом вздохнул. Рот его перекосило, начались спазмы, из груди рвался хрип.
– О-о! – давился Кай застрявшим криком, не в силах вытолкнуть его из нутра, и всё тыкал пальцем.
Дебальцев, оставив его, кинулся в пещеру. Через минуту следом за капитаном оттуда выскочили Пахомыч с Шаркуном. Шаркун сжимал в руках автомат. Вчетвером они кинулись на взгорок. Все поднимались молча. Один Пахомыч трясся и причитал.
Запястья Флегонта были пробиты огромными крюками, на которых краснели прежде белые изоляторы. Седая борода старца побурела и топорщилась. Он был ещё жив.
Дебальцев рванулся было снимать, велел бежать за пилой, за клещами, но распятый застонал и покачал головой.
– У-у! – припал Кай к его посиневшим стопам. Увидев пастыря вознесённым на кресте, Кай поначалу обомлел. А сейчас, вблизи, ослаб и не мог сдержать слёз. Это были слёзы жалости, любви и ещё покаяния. Каю казалось, что за последние месяцы старец уже настолько истончился до духа, что плоть его поколебать невозможно, потому что её как бы уже и нет. Оказалось, есть. Она была въяве, эта плоть. И страдания, и кровь – всё въяве. И эти холодные беззащитные ноги.
Ноги старца особенно поразили Кая. Внимая проповедям пастыря, стоя с ним на молитве, Кай видел только руки – то кладущие крест, то листающие Писание. А о ногах он не думал, будто и не существовали, как не существовала, казалось, плоть старца, покрытая хламидой. И вот теперь, увидев эти старческие усталые ноги, Кай плакал, не скрывая слёз. Сколько они исходили, эти ноги. Сколько дорог и троп одолели. И там, в прошлом, и здесь. Сколько грязи перемесили, сколько пыли дорожной. А теперь синие, пробитые железом, коченеют, оторванные от земли.
Каю почему-то припомнилось, как он обносил всех обитателей пещер сладкими пастилками и постеснялся предложить такую же Флегонту. От этого воспоминания ему стало ещё горше.
– Отче, – шептал Кай. Слёзы текли и текли. Стопы старца, словно оживлённые этим горячим потоком, пошевелились. Это был знак. Кай отстранился, не снимая ладоней с холодных лодыжек, поднял голову. Глаза их встретились.
– Э-ээ, – выдавил старец и, словно отдавая последний наказ, всё смотрел и смотрел на Кая, пока не потускнел его взор.
Когда старец угас, крест опустили и взялись за крючья. Какие мучительные силы потребовались, чтобы их выдрать. Те упыри, не чинясь, лупили по живому. Кай не смел потревожить даже мёртвого. Ему досталось вызволять из железных пут правую руку. Он оторопело глядел на изувеченную, пробитую крюком ладонь, на эти растопыренные сухие пальцы и не мог ничего сделать. Ещё вчера вечером эта рука, тёплая и твёрдая, покоилась на его темени, эти пальцы, сжатые в щепоть, осеняли его крестом, и вот теперь это всё на глазах костенело и умирало. Кай, не в силах более видеть это, закрыл глаза руками. За крюк, управившись с одним, взялся Дебальцев.
Старца похоронили тут же на взгорке. Обетный крест, вновь поднятый, стал могильным. Стоя над могилой, сложенной из камней известняка, все потерянно молчали. Что-то по-птичьи бормотал Пахомыч. Всхлипывала Тася, Вера Мусаевна гладила её по голове. А Кай, вытянувшись, держался двумя руками за перекладину креста и всё трогал ладонями колючую пробоину.
Вечером устроили поминки. За длинным столом, где в последнее время редко сходились вместе, собрались все. Флегонт сводил их в горсть при жизни, он свёл их и по смерти.
– Царство небесное, – отхлебнув из глиняной плошки, перекрестился Пахомыч.
– Мир праху, – сказал Дебальцев, он выпил до дна.
– Покой душе, – тихо добавила Мария, чуть пригубив.
Больше никто не вымолвил ни слова. Беззвучно, роняя слёзы на тяжёлый живот, плакала Тася. Вера Мусаевна шумно вздыхала. Кай выпил, скривился, подпёр голову рукой и прикрыл глаза.
Шаркун тоже выпил. Обычно, приняв стакашек зелья, он расслаблялся, пускался в разговоры, словно плотину какую прорывало. А тут – ни слова. Только поглядывал на торец стола, где в редкие их совместные застолья сиживал старец, смотрел на сиротливый стакашек, покрытый – за неимением ржаной корочки – белковой лепёшкой, и молчал. Было видно, что он норовил что-то сказать, Шаркун, – то