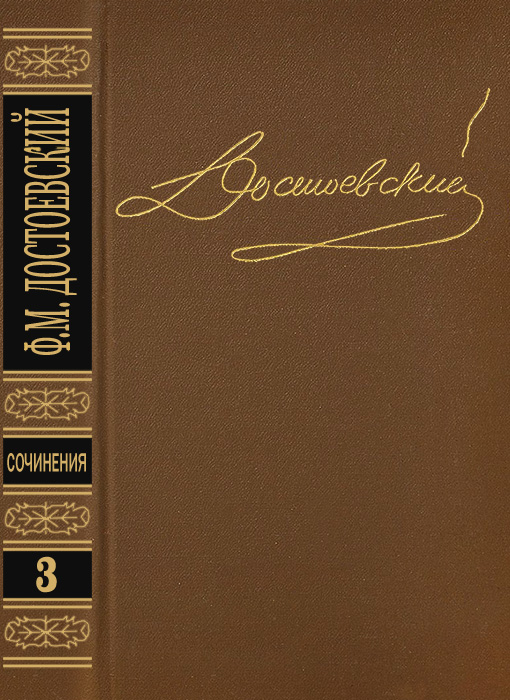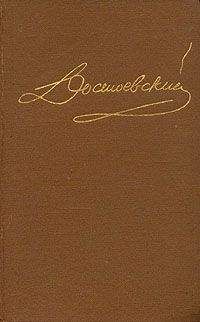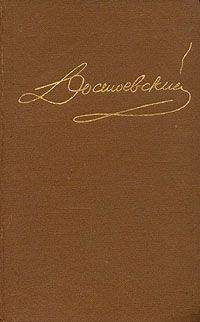бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик"… "Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или авдитор требовали взятки; не дать — беда, а денег нет; вот и идет первокурсный к своему же товарищу, но ростовщику; понятно, что в этом случае он заранее согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от прежестоких грядущих розгачей. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком, либо всегдашней возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники" (стр. 14).
Этого источника деморализации в мертвом доме не было; арестанты могли обворовывать друг друга, но взяточничество было для них невозможно, потому что ни один из них не мог подводить своих товарищей под наказания. Когда арестант занимал у ростовщика, то он тратил эти деньги на свои собственные надобности или удовольствия, а не на то, чтобы отвратить от своей спины карающую десницу, вооруженную прежестокими розгачами. Поэтому, вероятно, каторжный процент был впятеро ниже бурсацкого. Неимоверная высота последнего объясняется преимущественно тем страхом, под влиянием которого находился ученик в то время, когда он обращался к ростовщику.
Обирая своих подчиненных, классные сановники в то же время и развращали их, приучая их к самому безответному раболепству и подвергая их самым возмутительным унижениям. "Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли, — говорит Помяловский, — проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел, ему писались записки и вокабулы, по которым он учился; сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: "Эй, Катька, пить!" Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью, заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные (проявление эстетического чувства!), а не страшно, так отдует (проявление критической разборчивости!); да и чем только, при глубоком разврате Тавли, не служили для него подавдиторные?" (стр. 15). В последних словах заключается довольно ясный намек на — как бы выразиться поутонченнее? — на сократическую любовь…
Человеческая природа до такой степени богата, сильна и эластична, что она может сохранять свою свежесть и свою красоту посреди самого гнетущего безобразия окружающей обстановки. Чистые и светлые личности, подобные Добролюбову и Помяловскому, выходят иногда из бурсы; такие же личности проходят иногда, не загрязнившись, через мертвый дом. Но и в бурсе и в мертвом доме на одного устоявшего приходится всегда по нескольку десятков погибших, развращенных, расслабленных, растерявших здоровье, энергию и умственные способности. Устоять против бурсы, должно быть, во всяком случае гораздо труднее, чем удержаться невредимым в мертвом доме. В бурсу поступают малолетние ребята, которых силы и способности, как бы они ни были велики и блистательны, могут быть направлены и в хорошую и в дурную сторону, и на полезный труд, и на подлое надувательство, смотря по тому, каким влияниям подчиняются формирующийся характер и развивающийся ум. В мертвый дом, напротив того, попадают обыкновенно взрослые люди, которые или окончательно испорчены жизнью или уже до такой степени закалены в борьбе с враждебными обстоятельствами, что никакие посторонние влияния не покачнут их убеждений ни вправо, ни влево. Первых уже нечего портить, а вторых испортить невозможно. К этим двум крайним разрядам надо, впрочем, прибавить третий, очень многочисленный разряд людей, попавших на каторгу случайно, за какое-нибудь такое преступление, в котором нельзя подметить ни радикальной испорченности, ни фантастической любви к непозволительной идее. К этому третьему разряду принадлежат преимущественно убийцы, потому что убийство очень часто обусловливается такими страстями и порывами, которые во всякую данную минуту могут разыграться в самом спокойном и кротком человеке… В этом третьем разряде могут попадаться люди самых разнообразных характеров, между прочим и такие, которые, без какой-нибудь несчастной случайности, без какого-нибудь совершенно непредвидимого и неотвратимого стечения обстоятельств, прожили бы непременно до глубокой старости по всем правилам строжайшего благочиния. Разнообразию характеров соответствует в мертвом доме бесконечное разнообразие той жизни, которую вели его обитатели раньше своего соединения под гостеприимной кровлей острога.
При таком разнообразии стремлений, понятий, воспоминаний и надежд у взрослых людей, собранных в острог со всех концов России и расположенных заранее подозревать друг в друге отъявленных мерзавцев, — не может проявляться особенно сильная наклонность к взаимному сближению. Корпоративный дух в остроге должен быть очень слаб. Яркие и крепкие личности должны, конечно, подчинять своему влиянию людей бесцветных и ничтожных так точно, как это делается само собою во всяком обществе; но в мертвом доме не должно существовать такой силы, которая пригоняла бы к одному идеалу и шлифовала бы на один образец все индивидуальные умы и характеры. Острожное общество так рыхло и рассыпчато, в нем так мало однородности и компактности, что оно, как общество, не может подчинить своих членов никаким общеобязательным законам, запрещениям или предписаниям. Это полное бессилие общества особенно ярко выражается в том обстоятельстве, что это общество даже не пробует защищать себя против своих собственных изменников и шпионов. Во II томе своих "Записок", стр. 150–168, Достоевский рассказывает, каким образом арестанты заявляли претензию, то есть жаловались плац-майору на дурное качество пищи. Большинство сговорилось между собою, выстроилось на острожном дворе и через унтер-офицера послало доложить майору, что "желает говорить и лично просить его насчет некоторых пунктов". Майор приехал и тотчас начал ругаться; арестанты не произнесли ни одного слова, и претензия расстроилась, потому что многие струсили и объявили себя довольными. Кроме того, несколько человек во время претензии оставались в кухне и не хотели принимать в общей демонстрации никакого участия. Когда все дело кончилось и когда майор перепорол тех людей, которых ему угодно было считать зачинщиками, тогда арестанты не обнаружили никакого неудовольствия ни против тех, которые сидели в кухне, ни против тех, которые первые объявили себя довольными и расстроили общее предприятие. Явная измена, подводившая под розги смелых и стойких товарищей, осталась таким образом совершенно безнаказанной. Это обстоятельство очень удивляет автора "Записок", потому что автор совершенно ошибочно применяет к мертвому дому те понятия о товариществе, которые мы обыкновенно выносим с собою в жизнь из учебных заведений. Но эти понятия к населению мертвого дома совершенно неприменимы. Где существует хоть какое-нибудь товарищество, там непременно должны существовать ненависть и презрение к фискальству. Без этого условия товарищество немыслимо, и солидарность между отдельными личностями невозможна. А в мертвом доме не было ничего похожего на преследование доносчиков. "Что же касается вообще доносчиков, — говорит Достоевский, — то они обыкновенно процветают. В остроге доносчик не подвергается ни малейшему унижению; негодование к нему даже