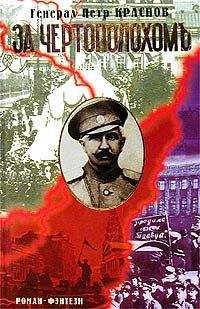Через минуту он обогнал их. Два ружья — Бакланова и Дятлова — висели у него за плечами, третье — Коренева — и револьверы он держал в руке, поперек седла.
На опушке леса, заслоненный молодой порослью елок, стоял одноэтажный дом казарменного вида. Сбоку была площадка, полосатая будка, белая с черными полосами, обведенными оранжевым шнуром, и рядом высокий флагшток, покрашенный в те же цвета. На флагштоке чуть развевался большой русский флаг. У Коренева и Бакланова сжались сердца, когда они увидели белую, синюю и красную полосы, которые в этом русском сочетании они видели только на старых картинах. У Коренева слезы стояли на глазах.
— Россия!.. — умиленно прошептал он. — Вот она, Россия!
— Россия-матушка! — воскликнул Курцов. — Здравствуй, родная! — И, скинув шапку, перекрестился.
Все мужчины сняли шляпы. Девушки с благоговением входили в тихий лес, и у них, у атеистов и безбожников, было такое чувство, точно входили они в храм.
По платформе возле будки ходил взад и вперед такой же молодец, как и тот, который их обогнал. У него висело чистенькое нарядное ружье за плечами какой-то не виданной Кореневым системы, обнаженная шашка была в руках. Он зорко осмотрел проходивших, невольно замедливших шаги, но ничего не сказал. На краю платформы стоял какой-то странной формы инструмент на небольших колесах. Он имел длинный ствол, покрытый металлическим чехлом, и сзади к нему был прикреплен цилиндр с тонкими трубами с маленькими медными кранами. Орудие это имело ручки и лямки для перевозки его людьми и, вероятно, собаками. Большая, серая, похожая на волка, олонецкая лайка, с длинной острой мордой и стоячими ушами, сытая, холеная, с блестящей красивой шерстью, черной на спине и желтовато-серой на боках, в ошейнике из серебра с голубыми камнями, раскинувшись, лежала подле орудия. Она открыла пасть, обнаружив два ряда блестящих белых зубов, высунула длинный тонкий язык и смотрела внимательно на входивших. Но она не залаяла, не ощерилась, а чуть два раза вильнула кончиком хвоста, будто сказала: «Добро пожаловать».
Над дверьми казармы висела большая белая вывеска, и на ней под золотым выпуклым двуглавым российским орлом большими печатными буквами было написано: «Застава N 12 Островского полка Императорской порубежной стражи. Псковское воеводство». На дворе, окруженном сквозной решеткой, обсаженной сиренью и акацией, были видны конюшни и сараи. Люди выводили лошадей на коновязь. Они были без казакинов, в цветных, белых, синих и серых рубахах, заправленных в шаровары. Они весело говорили, ласково окликая лошадей. От них отделился молодой красивый человек, вероятно, офицер, потому что на его казакине были серебряные погоны, подошел к воротам и смотрел на путешественников и тоже ничего не сказал, ничего не спросил.
«Однако, — подумал Клейст, — не любопытный народ в этой самой России».
Против казармы, в лесу, на нарочно расчищенной площадке, окруженной голубыми американскими десятилетними елками, высилась красивая, выложенная цветным, розовато- и голубовато-серым мрамором, с высоким золотым куполом, часовня. В ней за раскрытой стеклянной дверью видны были иконы, украшенные золотом, камнями, лентами и цветами. У икон стоял аналой, и монах в черной рясе, негромко, то поднимая голос, то понижая до шепота, что-то читал перед изображением распятого Христа.
Коренев, Курцов и Клейст подошли ближе к часовне.
— Помяни, Господи, — читал старый седой монах, — души рабов безвинно убиенных: императора Николая II Александровича, государыни императрицы Александры Феодоровны…
Он именовал имена наследника и всех великих княжон, а потом быстро и невнятно бормотал еще имена… имена… имена…
— Болярина Сергея… воина Никиты… умученного болярина Феодора, воинов Александра и Константина, малолетнего Николая и всех в море утопленных, заживо пожженных, муками страшными замученных, заживо погребенных, голодной смертью погибших… Их же имена Ты Един, Господи, веси… Вся их согрешения, вольная и невольная, яко благий и человеколюбец, прости!..
Появившаяся на лице Дятлова ироническая улыбка застыла. Было что-то умилительное в этом утреннем поминовении убитых и замученных людей, в глухом лесу, против казармы, полной потомками, быть может, тех самых людей, которые в море бросали, в огне жгли, заживо погребали и мучили братьев, уничтожая под корень свою родину.
Хотелось расспросить монаха, что это за новый обычай в новой России, от которой стариной пахло и которая по-старому широко распахивала объятия пришельцам, не спрашивая, кто они и зачем они пришли.
Офицер смотрел на них ласково, но лицо его было замкнуто, и всем показалось что он не ответит на их вопросы, как и сам их не спросил ни о чем. Путешественники почувствовали, что в новой России болтовни нет, она сосредоточилась в какой-то большой и сильной, — и, судя по тому, что и казарма, и часовня, и обмундирование, и снаряжение блистали новизной — творческой работе. В этой работе новая Россия достигла уже многого и сделала открытия, неизвестные западноевропейскому ученому миру.
Путники пошли от часовни. Ироническая улыбка сошла с лица Дятлова, и он опустил голову и глубоко задумался.
Коренев, напротив, гордо поднял свою голову и всем видом говорил: «Я — русский! Русский! Боже! Как хорошо, что я — русский!»
Через лес шло прекрасно разделанное шоссе. Вдоль него были посажены дикие каштаны. Зеленой лентой уходило шоссе между темной полосой дикого и угрюмого, нерасчищенного леса и напоминало путникам шоссе Германии.
Когда прошли лес, перед путешественниками открылся широкий простор полей и желтых, уже убранных, нив. Только овсы еще доспевали и зеленовато-желтой волнующейся полосой колебались то тут, то там, среди полей ржи и розово-зеленых клеверников, покрытых цветущей, густой, низкой и жирной отавой. В полуверсте раскинулось небольшое село. Оно состояло из ряда усадеб, окруженных садами и огородами, клунями, амбарами и сараями, раскинутыми по широкому пространству возле речки, вокруг площади, на которой стояла новая белая каменная церковь с голубыми куполами, усеянными золотыми звездами. Дружный шум молотилок и веялок, пение петухов и кудахтанье кур доносилось оттуда. Довольством тянуло от высоких золотистых скирд хлеба и громадных, еще не успевших зажелтеть, копен сена, расставленных по задам деревни.
Медленный благовест несся от села. Звонили к обедне.
За селом, под самый горизонт, уходили поля — то желтые, то зеленые, то красные гречишные, то мохнатые конопляники, то черные, уже распаханные под новую озимь. Сладким, бодрящим и волнующим запахом зерна неслось от нив, пахло клевером, простором, ширью. Мощно, могуче вздыхала счастливая Русь и дарила богатство и счастье.
Вправо, немного на отшибе, в тенистых купах кудрявых дубов и круглых лип, на небольшом пригорке над рекой, стоял одноэтажный дом старой русской архитектуры, с колоннами по фронтону, с высокими окнами, со спущенными зелеными ставнями.
У крайней хаты высокий мужик лет тридцати пяти наливал из каменного водопроводного крана ведра. Он был босой, с белыми чистыми ногами, мягко стоявшими на мокром песке, в сероватых длинных штанах и рубашке, подпоясанной цветным пестрым поясом. На голове густо росли расчесанные на две стороны волосы, остриженные в кружок. Он напомнил Эльзе картину «Крючник», которую писал Коренев незадолго до их отъезда из Берлина.
Курцов выдвинулся вперед и развязно спросил:
— Псковские?
— Псковские, — отвечал мужик.
— И я псковской, — сказал Курцов.
— Храни Бог, — сказал мужик. — Откеля идете? Не по-нашему, православному, одеты. Ишь, усы поскоблили, бороды обрили, а бабы в юбках каких коротких, колени видать. Не по-нашему. Из Неметчины, что ль?
— Из Германии, а только мы русские, — сказал Коренев. — Где здесь Шагин живет?
— Шагин? — переспросил мужик. — А на что вам Шагин? Кто вам его указал?
— Семен, мальчик, пастух, — сказал Коренев.
— А… а… Сеня. Вы его, значит, возле леса повстречали. За порубежной заставой. Ну, что ж, коли указал, пойдемте. Я вот он и есть — Шагин. Устали, поди-ка? Что, у вас в Неметчине-то, видать, не сладко живется? Свобода-то надоела, что ль?
— А что? — спросил Бакланов.
— Да что? Не первые вы, — сказал Шагин. — За лето через наше село человек до тридцати пройдет. И все в Бога не веруют. Вы-то тоже, поди, неверующие?
Опять, как и на вопрос мальчика, промолчали. В Германии гордо кричали, и спорили, и шумели, и хулу на Бога творили, и смеялись, а тут примолкли. Синее ли небо, широкое, бездонное, на котором облака золотые бродили, ширь ли бескрайняя, тишина ли звонкая, мирными звуками сельского труда нарушаемая, мужик ли этот высокий, рослый, могучий, красивый, который с Бога начал, Богом и кончил, подействовали на них, но только здесь было совестно не верить; здесь, где кругом залегла прекрасная, богатая земля, где все росло, ширилось, где ласково отовсюду видная, точно посылающая привет всеми своими пятью голубыми головами, стояла церковь, где мерно звонил колокол — было до очевидности ясно, что есть Бог, что только безумец может отрицать Его существование.