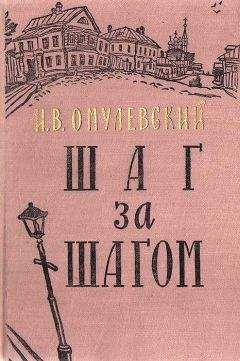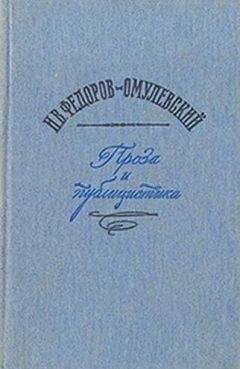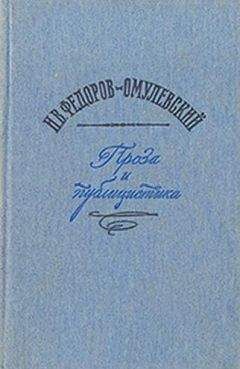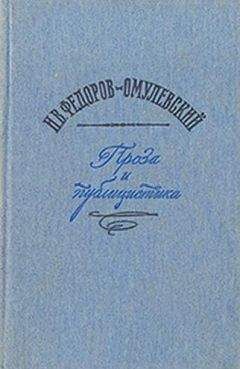— Ну, вот, теперь мы будем вместе советоваться, — молвил Александр Васильич, переходя в более веселый тон, — только, вперед, одно условие: полнейшая искренность с обеих сторон. Не так ли?
Он протянул ей обе руки.
— Да, да; мне бы так хотелось с кем-нибудь поговорить, кто больше меня знает, — сказала она, прямо и доверчиво смотря ему в глаза.
— Ну, я хоть и немного больше вашего, а все-таки кое-что знаю, Анюта, — заметил ей Светлов совершенно просто.
— А вы не будете надо мной смеяться? — спросила она наивно и как-то особенно весело.
— Непременно; без этого не обойдется. Как только скажете, что-нибудь смешное, так и засмеюсь; впрочем, потом скажу, почему смеюсь.
Они снова оба засмеялись.
— Так, значит, мы будем жить друзьями? Не правда ли? — спросил через минуту Александр Васильич.
— Разумеется, друзьями… — застенчиво, но доверчиво ответила она.
— Так что я могу считать, что с сегодняшнего же дня начинаются и мои дружеские обязанности в отношении вас. — спросил снова Светлов.
— То есть что же?.. я, право, не знаю… — смутилась Девушка.
— А вот что. Шитье-то ведь плохая работа, Анюта; времени уходит на него много, а труд не вознагражден. Это бы еще вполгоря, но тут и вопрос о здоровье замешивается…
— Так ведь что же делать! — вздохнула Анюта.
— Постойте, не вздыхайте. Я вот что придумал: я вам уроки достану.
— Ой, где мне! Я и сама-то ничего не знаю…
— Ну, полноте, как ничего не знаете! Мы сперва начнем не с мудреных, а там и втянетесь помаленьку? — сказал Светлов вопросительно.
— Да я бы рада была… попробовать; только мне кажется, что я не справлюсь с этим.
Девушка грустно покачала головой.
— А вот увидим, справитесь ли. Вы мне теперь скажите только, уполномочиваете ли вы меня позаботиться об этом?
— Я, право, не знаю; я могу сконфузить вас: я ведь такая неловкая, дикая…
— Вот уж я не из конфузливых-то! — засмеялся Светлов. — Нет, вы уж обо мне, пожалуйста, не хлопочите, Анюта. Я считаю этот вопрос порешенным… Да?
Он протянул ей руку. Она колебалась. Ей, видимо, и понравилось его предложение, и что-то удерживало еа принять его.
— Я бы лучше подумала… — сказала она, не зная, что делать.
А Светлов не отнимал своей протянутой руки.
— Ну что же это? Что же я буду делать? — тревожно прошептала Анюта, как бы говоря сама с собой, и ее маленькая, худенькая рука, может быть против ее воли, незаметно очутилась в здоровой руке Светлова.
— Давно бы так! — сказал он весело.
Минут десять еще потолковали они об этом. Между тем Агния Васильевна вернулась с рынка вместе с двумя маленькими сыновьями. В руках у ней был кулек с рыбой. Светлов выбежал к тетке навстречу, в переднюю. Она его сперва не узнала, но потом вдруг бросилась к нему на шею и заплакала. Орлова была еще очень бодрая старушка, хотя по всему лицу ее и прошли те неизгладимые черты, какие способно врезывать одно толькся глубокое, безысходное горе. Всматриваясь в это выразительно-скорбное лицо, Александр Васильич невольно вспомнил, что в семействе у них, Светловых, существовало как бы предание, что никогда и никто не слышал ни одной жалобы из уст этой женщины.
— Вот, мои матушки, не ожидала-то, кого бог увидать привел! — говорила она сквозь слезы, рассматривая пристально Светлова и даже позабыв, что кулек у ней все еще оставался в руке. — Я как будто знала, что селенгу сегодня купила: ты ведь до нее прежде охотник был…
Тут только вспомнила Агния Васильевна о своем кульке.
— Посмотри-ка, какая большущая… Это что! — сказала она, доставая из него крупную соленую рыбу и показывая ее Светлову.
— Уж как хотите, тетя, а меня попотчевайте; я ведь сколько лет не лакомился ею, — попросил Александр Васильич.
Это доставило несказанное удовольствие Агнии Васильевне. Но едва ли еще не большее удовольствие доставило ей то, что племянник назвал ее «тетей». Она засуетилась как угорелая: у ней все так и выпадало из рук. Хлопотня старушки чрезвычайно развеселила Светлова. Он забрался к ней на кухню, принялся сам чистить рыбу, стал крошить лук и прослезился при этом, рассказывал забавные вещи, смешил до упаду всех и сам хохотал — словом, школьничал. В каких-нибудь четверть часа семья Орловой так освоилась с гостем, как будто уж и невесть сколько лет он заглядывает таким образом к ним по утрам. Дети, так те просто одолели его. Они то взбирались к нему на колени, то залезали ручонками в его карман, чтоб вытащить оттуда ярко блестевшие золотые часы; младший сын Орловой даже пробовал на шею ему вскарабкаться, несмотря на все урезонивания сестры и матери.
— Вишь, как ребятки-то его полюбили, даром что нарядный да важный такой, — замечала Агния Васильевна дочери, сияя материнским восторгом.
— Уж и важный! — смеялся Светлов.
— Разумеется, батюшка, важный: платье-то одно чего у тебя стоит! Только зачем это ты бородищу-то не сбреешь? Так-то будто на мужика похож… Право! — наивно критиковала старушка племянника.
— Настоящему русскому человеку так и подобает… на мужика походить, — шутил Александр Васильич.
— Еще чего выдумаешь! — смеялась Агния Васильвна, с оттенком добродушной укоризны.
— Дяденька! А, дяденька! Вы-ы-думайте еще чего-нибудь… — наивно обратился к Светлову старший из мальчиков.
— Изволь!
И Александр Васильич преуморительно натурально рассказал ему басню Крылова «Кот и повар». Дети с сосредоточенным вниманием следили за малейшими изменениями лица и движений рассказчика, передразнивая каждую его гримасу, и к концу басни разразились неистовым хохотом. Даже Анюта прыснула со смеху, хотя немного и сконфузилась при этом.
Светлов просидел у них довольно долго, неумолкаемо болтая и шутя. Когда он уходил, вся семья проводила его до ворот и даже постояла несколько минут за воротами, пока пролетка Александра Васильича не завернула на угол улицы.
— Поезжай домой, — сказал он кучеру, посмотрев дорогой на часы.
Светлову почему-то не захотелось ехать сегодня до обеда еще к кому-нибудь, хоть он и знал, что дома мать распечет его за это порядком.
V
ВСТРЕЧА С СТАРЫМИ ТОВАРИЩАМИ
«Впечатления бывают чище и глубже, когда они реже повторяются», — думалось дорогой Александру Васильичу. Этим он как будто хотел мысленно оправдать себя перед стариками в том отношении, что посетил во все утро только два дома. Но Светлову, видно, не суждено было ограничиться в это утро одними теми впечатлениями, какими он теперь возвращался домой. Едва миновав; две-три улицы, Александр Васильич вдруг услыхал, почти рядом с собой, громкий голос:
— Сто-о-й! Светловушка!
Не успел он обернуться в сторону голоса, как к нему подбежал, быстро соскочив с дрожек, молодой человек в парадной форме лекаря горного ведомства.
— Батюшки! Ельников! Ты какими судьбами? — закричал радостно Светлов и, в свою очередь, радостно бросился к приятелю.
Они дружно обнялись и поцеловались.
— Вот не думал-то!.. — сказал Александр Васильич, весь покраснев от удовольствия.
— Я, брат, и сам не думал, так скоро тебя увидеть… Еду — гляжу: что за чудо! неужели Светлов? Так и есть: он! — проговорил впопыхах Ельников, сияя тем же удовольствием.
— Едем ко мне, — пригласил Светлов.
— Нет, брат, ко мне. Я сегодня целое утро с официальными визитами таскаюсь, устал страшно, а у тебя ведь семья: не сразу растянешься, как дома. Отпускай свое судно, авось и на моем доберемся до пристани, хоть оно немножко и не того… не из паровых.
— Значит, надо заказать, что и обедать дома не буду? — улыбнулся Светлов.
— Полагается.
Александр Васильич отпустил своего кучера с заказом, что обедать дома не будет, и поехал с Ельниковым. Дорогой Светлов вкратце рассказал ему, как выдержал экзамен, сообщил самые свежие петербургские новости; рассказал, что отыскивал его в Москве, но там сказали, что он, Ельников, тоже выдержал экзамен и уехал на службу, лекарем, в Сибирь.
— Я и думал, что ты теперь где-нибудь в нерчинских краях пребываешь, — заключил Александр Васильич, слезая с дрожек у ворот квартиры Ельникова.
— Да оно так бы и случилось, пожалуй, если б я не похлопотал здесь у начальства. Не хотелось, брат, мне забираться в такую глушь… — сказал Ельников, и в голосе его послышалась тоскливая нота.
Анемподист Михайлыч Ельников принадлежит к числу тех личностей нашего рассказа, на которых мы остановимся подольше, и потому сказать о нем особо Два-три слова будет не лишнее. Ельников представлял собой фигуру среднего роста, до крайности сухощавую. Чрезвычайно серьезное лицо его смотрело мрачно, как иная сентябрьская ночь; но когда это лицо освещала редкая улыбка, оно было в высшей степени добродушно и привлекательно. Особенно хороши были у Ельникова глаза: большие, черные, глубоко впавшие в свои орбиты, такие же мрачные, как и лицо, они обнаруживали сильный самобытный ум и постоянно как-то лихорадочно лестели. С первого взгляда манеры Анемподиста Михайлыча казались грубыми, угловатыми; но, привыкнув к этим манерам, в них нетрудно было подметить ту своеобразную, суровую мягкость, которая как будто говорит встречному: «Ты смелее подходи ко мне — я человек хороший». Тем не менее наружность Ельникова производила на каждого, с первой же встречи, весьма тяжелое, тоскливое впечатление: неизлечимым недугом чахотки веяло от каждой ее черты. В особенности, когда Анемподист Михайлыч бывал чем-нибудь взволнован, лицо его принимало такой неестественный, зеленоватый цвет и восковую прозрачность, что становилось как-то жутко в его присутствии не одному свежему человеку, но и хорошо знавшим Ельникова товарищам.