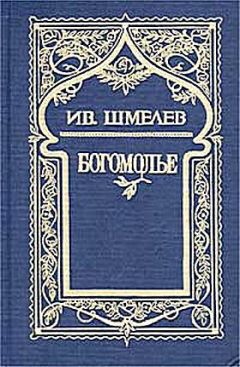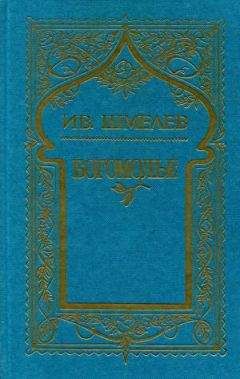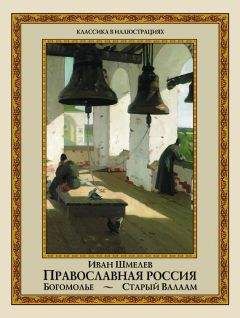— Никого не убивали, — говорит старик, — а купец помер своею смертью, ехал из Александрова, стал закусывать под березой… ну, его и хватило, переел-перепил. Ну, сын его увез потом домой, а для памяти тут крест поставил, на помин души нам выдал… я тогда парнем был. Хорошо помянули. У нас этого не заведено, чтобы убивать. За Талицами… ну, там случается. Там один не ходи… А у нас этого не заведено, у нас тихо.
Все мы рады, что не зарезали, и кругом стало весело: и крестик, и береза повеселели будто.
— Там овражки пойдут, — говорит старик, — гляди и гляди. И лошадку могут отнять, и… Вы уж не отбивайтесь от дружки-то, поглядывайте.
И опять нам всем страшно.
Сильно парит, а только десятый час. За Талицами — овраг глубокий. Мы съезжаем — и сразу делается свежо и сумрачно. По той стороне оврага — старая березовая роща, кричат грачи. Место совсем глухое. Стоит, под шатром с крестиком, колодец. В горе — пещерки. Лежат у колодца богомольцы, говорят нам: повел монах народ под землю, маленько погодите, лошадку попоите. Федя глядит в колодец — дна, говорит, не видно. Спускает на колесе ведро. Колесо долго вертится. Долго дрожит веревка, втягивает ведро. От ведра веет холодом. Вода — как слеза, студеная, больно пить. Говорят — подземельная тут река, во льду; бывает, что и льдышки вытягивают, а кому счастье — серебряные рубли находят, старинные. Тут разбойники клад держали, а потом просветилось место, какой-то монах их вывел.
— Глядите-ка, — говорит Федя, — старушка знакомая тут, с внучкой-то, в бусах-то… у эаставы-то повстречали!
Старушка признает нас, рада. С ней на травке красавочка-молодка, которая на девочку похожа, в красной повязке рожками, в узорочной сорочке. Все мы рады, словно родные встретились. Молодка почему-то плачет, перебирает янтарные бусинки в коленях. Горкин расспрашивает, с чего это она плачет. Старушка жалуется, что вот, ни с чего обидел внучку старик один — вон лежит, боров, на кирпиче-то дрыхнет!
— Да что, родные… Подошел к нам, схватил бабочку за рукав, стал сопеть, затребовал ее… дай мне твой замочек, какой ни есть… я те замкну — отомкну, а грех на себя приму! Тьфу!.. Боров страшный!.. Про грех сказал-то чего, а? А это он от людей слыхал, что мальчика — андельскую душку — заспала, молчит-горюет с того. Она — от него, заголосила… Как бес, страшный, железами закручен, замки навешены! Он ее за бусы и схватил, потянул к себе… пойдем со мной жить, я с тебя грех сыму-разомкну! И порвал бусы-то на ней. Чумовой! Все тут собирали, не собрали. До слез внучку довел. И плакать разучилась, а вот и заплакала!
Красавица-молодка смотрит на нас сквозь слезы. Горкин и говорит:
— А ведь к лучшему вышло-то! Она будто в себя пришла, по-умному глядит. Помню, шла — как водой облили… а ты гляди, мать, она хорошая стала! Может, себя найдет?..
— Дал бы Господь милосливый! Откликаться стала, а то все немая словно была. Как бусинки-то посыпались, она — ах!.. — как заголосит!.. Стала их подбирать, меня звать. Признала меня-то, родимые… Заплакала, жаться ко мне стала. «Ба-ушка, — говорит, — да где мы с тобой, да пойдем, баушка, домой!» Федя нашел бусинку и подает молодке. Она ничего, приняла от него, покосилась только и закрыла лицо ладошками. Домна Панферовна к ней подсела, по головке ее погладила, и стала говорить что-то — ничего, слушает. На меня так весело посмотрела и далее улыбнулась. Совсем как святая на иконах, очень приятная. Горкин говорит — чудо совершилось! Федя кричит нам: «Идите сюда, тут старик замечательный!» Старик страшный, в волосах репейки, лежит головой на кирпиче. Подходим, а он распахнул дерюжную кофту, а там голое тело, черное, в болячках, и ржавая цепь, собачья, кругом обернута, а на ней все замки: и мелкие, и большие, ржавые, и кубастые, а на животе самый большой, будто от ворот. Он как гаркнет на нас: «Пустословы ай богословы?» Горкин говорит ему ласково — мы не величаемся, а как Гослодь. Старик и давай молоть:
— Отмаливаю за всех! Замкну-отомкну, ношу грехи, во сколько! Этот пять лет ношу, кабатчиков, с Серпухова! на нем кровь, кро-овь. А это бабьи грехи, укладочные, все мелочь… походя отмыкаю-замыкаю… от духа прохода нет от ихнего, кошачьего. С вас мне нечего взять, сами свое донесете!
А на Домну Панферовну осерчал:
— Ты, толстуха, жрать да жрать? Давай твой замчище… замкну и отомкну! Поношу, дура, за тебя, осилю… пропащая без меня! Воротный давай, с лабаза!
Домна Панферовна заплевалась и давай старика отчитывать. Святые люди — смиренны, а он хвастун!
— Свою-то грязь посмой! На кирпиче спит на людях, а больную бабенку обидел, бусы порвал! Таких дармоедов палкой надо, в холодную бы…
Горкин успокаивает ее, а она еще пуще на старика, сердца унять не может. Старик как вскинется на нее, словно с цепи сорвался, гремит замками.
— Черт! — кричит, — черт, бес!..
И давай плеваться. Тут и все поняли, что он совсем разум потерял. Приходит монах с пещерок и говорит: «Оставьте его в покое, это от Троицы, из посада, мещанин, замками торговал — и проторговался… а теперь грехи на себя принимает, с людей снимает, носит вериги-замки. Из сумасшедшего дома выпустили его, он невредный».
Смотрим пещерки, со свечками. Сыро, как в погребе, и скользко. И ничего не видно. Монах говорит, что жил в горе разбойник со своей шайкой, много людей губил. И пришел монашек Антоний, и велел уходить разбойнику. А тот ударил его ножом, а нож попал в камень и сломался, по воле Господа. И испугался разбойник, и сказал: «Никогда не промахивался, по тебе только промахнулся». И оставил его в покое. А тот монашек стал вкапываться в гору, и ушел от разбойника в глубину, и там пребывал в молитве и посте. А разбойник в тот же год растерял всю свою шайку и вернулся раз в вертеп свой, весь избитый. И узнал про сие тот монашек, и сказал разбойнику:
«Покайся, завтра помрешь». И тот покаялся. И замуровал его монашек в дальней келье, в горе, а где — неведомо. И с того просветилось место. Сорок лет прожил монашек Антоний один в горе и отошел в селения праведных. А копал девять лет, приняв такой труд для испытания плоти.
Выходим из пещерок, Горкин и говорит: «Что-то я не пойму, плохо монах рассказывает». Ну, Федя и объяснил нам, что все это для пострадания плоти и все-таки монах и разбойников рассеял, а атамана к покаянию привел Спрашиваем монаха: а святой тот, кто гору копал? Монах подумал и говорит, что это неизвестно и жития его нет, а только по слуху передают. Ну, нам это не совсем понравилось, что нет жития, а по слуху мало ли чего наскажут. Одно только хорошо, что гнездо разбойничье прекратилось.
Идем самыми страшными местами. Темные боры сдвинулись, стало глухо. Дорога совсем пустая, редко — проедет кто. И богомольцы реже. Где отходят боры — подступают березовые рощи, с оврагами. В перелесках кукушек слышно — наперебой.
— Кукушечки-то раскуковались… перед грозой, пожалуй?.. — говорит Горкин, оглядывая небо. — Да нет, чисто все. А парит.
— Уж коли парит — где-нибудь туча подпирает… — говорит Антипушка. Кривая-то задотела! И березой как… чи-стые духи, банные. С овражков-то как тянет… это уж дождю быть.
И любками стало пахнуть. А до вечера далеко; а они больше к ночи пахнут, фиалочки ночные. А кукушки… — одна за другой, одна за другой — прямо наперебой, спешат. Мы загадываем, сколько нам лет пожить. Горкину вышло тридцать, а мне, — четыре, сбилась моя кукушечка. Говорят — она еще считать не выучилась.
С нами и старушка с внучкой, так привязались к нам. И нам с ними повеселей. Молодка тоже повеселела, стала чуть с Домной Панферовной говорить. Та ее окликнет: «Параша!» — а молодка ей: «А-я?» А то: «Аюшки?» Федя находит земляничку, дает Параше, а та ничего — скусит и улыбнется. Все смеются на Федю: какой кавалер хороший, а в монахи все трафится. И старушка очень удивилась — молодчик такой, красавчик, а под каблук под черный! А он все Параше земляничку. Домна Панферовна ему и посмеялась:
— Найди такую себе кралечку в Москве — и женись, и будешь ее земляничкой кормить… а эта чужая, муж есть.
Федя как будто испугался и убежал от дороги в лес. Насилу мы его дозвались — страшно без него-то, места глухие… Кащеевка сейчас.
Проходим Кащеевкой, где зарезали щепетильщика. Спрашиваем у тамошних, как зарезали щепетильщика, поймали ли? Говорят — и не слыхали даже. Был, говорят, коробейник-щепетильщик намедни тут — на Посад пошел. А мужик вот проезжий сказывал… — на Посаде один мужчина зарезался в трактире, в больницу его свезли, — с того, может, слух и пошел. А тут место самое тихое.
И правда, совсем не страшно. Говорят, медведика видали в овсах, пошел — запрыгал-закосолапил. А мы и не видали. Ну, говорят, может, еще увидите, тут их сила.
Долго идем, а медведика все не видно. За Рахмановой сворачиваем с дороги — на Хотьково. Места тут уж самые глухие. Третий час дня: как раз к вечерням и попадем к родителям Преподобного. А дорога тяжелая, овраги. Сильно парит, все истомились, Кривая запинается, И вот — будто за нами… гром?..