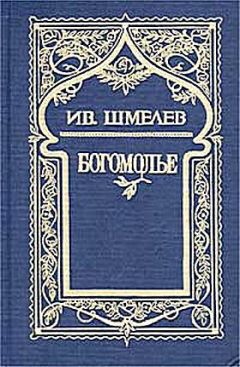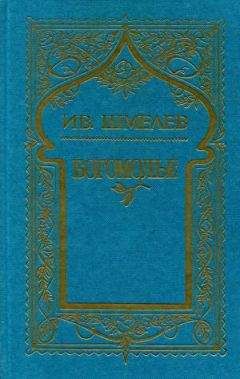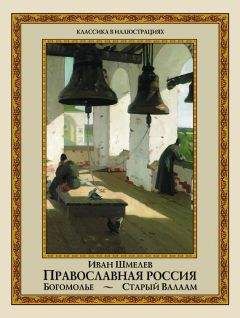— Никак громком погромыхивает?.. — оглядывается Горкин. — Э-э… гляди-ка, чего делается-то… к Москве-то как замолаживает! О-о-о… гроза на нас гонит, братики, дойтить бы успеть только. Погоняй, погоняй Кривую, Антипушка!.. Мы с Анютой в тележке. Небо за нами темное, давит жаром. Вот парить-то начало с утра — к грозе. С оврагов тянет медовыми цветами.
— Гляди, Кривая чего разделывает… ушками как стригет! это она громка боится… — нукая, говорит Антипушка. — А ты, дурашка, не бойся… дождичком-то помоет — будешь хорошая. Смокла как, запотела.
Гром теперь ясно слышен, раскатами. Синее к Москве, за нами, и черное из-за лесу, справа. Я вижу молнию, и Анюта видит, — будто огненная веревка, спуталась и ушла под тучу. Скорее бы до Хотькова дотянуться. Гром уж будто и впереди, — словно шары катают.
— Ка-ак раскатилось-то!.. — говорят. — Круговая гроза идет, страшная, не дай Бог!.. О-о-о, отовсюду нахлобучивает!..
И опять я вижу золотую веревочку на туче — мигнула только. Встречный мужик в телеге кричит:
— А вы поторапливайтесь! покос вон монастырский, сено монашки убирают-спешат… к сарайчику добирайтесь! У, грозища идет, совсюду нахлобучивает как… не дай Бог, град!..
Он вытаскивает из-под себя рогожу и накрывается.
— Неужто с градом, холодом как подуло?.. — Антипушка снимает шапку и крестится. — Гляди-ка, туча-то с бородой… как бы не подмела.
Едем березами, чистой рощей. Кукушки и там, и там — кукуют, как очумелые, от грозы. Густо пахнет березой, сеном, какими-то горькими цветами. Кривая сама торопится, грозы боится. Вон и покос, лужайка. Монашки быстро мотают граблями, сгребают сено в валы и копны. Совсем стемнело: черная над нами туча, с белыми клочьями — «с бородой». С клочьев стегают молнии, бьют в березы. Анюта тычется головой, кричит:
— Ой, бабушка, боюсь!..
Совсем нависло, цепляет за березы, сухо трещит, словно ворох лучины бросили… и вот — оглушает громом, будто ударило в тележку. Все крестятся и шепчут «Свят-свят-свят, Господь-Саваоф…» Катится долго гром, и опять вспыхивает-слепит, и опять грохает, до страху. Набегает за нами шорохом — это ливень. Нам машут с луга монашки — скорей, скорей! Первые капли падают, крупные, как градины. На выкошенном лугу рядами темнеют копны, синеют-белеют трудницы: синие на них платья и белые платочки. Рысью мы доезжаем до навеса, бежим укрыться. Дождь припускает пуще. Старушка монахиня приветливо говорит:
— Перегодите дождичок-то, спаси вас Господи.
Горкин спохватывается: мешки-то в телеге смокнут! Федя бежит к телеге, схватывает мешки — весь мокрый Кривая стоит под ливнем, развесив уши, вся склизкая. Будто болото под телегой. Антипушка доволен — ничего, поосвежит маленько, для Кривой это хорошо, погода теплая.
С веселым криком бегут трудницы по лугу, как будто в сетке.
— Сороки-то мои, глупые… ах, глупые!.. — смеется старушка монахиня.
Будто летят в дожде бело-синие птицы по лугу. Уж не ливень, а проливень — леса совсем не видно. Блещет, гремит и льет. Огромная лужа у навеса — зальет, пожалуй, и куда мы тогда все денемся, надо на крышу лезть Хочется, чтобы подольше лило. Трудницы выскакивают под ливень, умываются дождиком и крестятся. Грохает прямо над сараем. Монахиня говорит, крестясь:
— Свят-свят-свят… Ах, благодать Господня… хорошо-то как стало, свежо, дышать легко!.. Свят-свят…
Гром уже тише, глуше. Пахнет душистым сеном и теплым лугом, парок курится. Слышно под уходящий ливень, как благовестят в монастыре к вечерням.
— Уж заночуйте у родителей Преподобного, — говорит нам монахиня, помолитесь, панихидку по родителям отслужите, схимонаху Кириллу и схимонахине Марии.
И услышит вашу молитву Преподобный. У нас хорошо, порядливо… под Покровом Владычицы обитаем. Родители-то у нас под спудом… кутьицей сытовой родителей помяните, спаси вас Господи. Рукодельица наши поглядите, кружевки, пояски… деткам мячики подарите лоскутные с вышивкой, нарядные какие…
В Хотькове мы ночуем.
Утро, тепло и пасмурно. Дали смутны. Мы — «у Креста», на взгорье. В часовне — великий крест. Монах рассказывает, что отсюда, за десять верст до Троицы, какой-то святой послал поклон и благословение Преподобному, а Преподобный духом услышал и возгласил: «Радуйся и ты, брате!» Потому и поставлен крест. Рассказывает еще, что видят отсюда, кого сподобит, троицкую колокольню, будто розовую свечу, пасхальную.
Мы стоим «у Креста» и смотрим: синие, темные боры. Куда ни гляди — боры. Я ищу колоколенку — розовую свечу, пасхальную. Где она? Я всматриваюсь по дали, впиваюсь за темные боры и вижу… вижу, как вспыхивает искра, бьется-дрожит в глазах. Закрываю глаза — и вижу: золотой крест стоит над борами, в небе. Розовое я вижу, в золоте, — великую розовую свечу, пасхальную. Стоит над борами, в небе. Солнце на ней горит. Я так ее ясно вижу! Она живая, светит крестом — огнем.
— Вижу, вижу! — кричу я Горкину.
Он не видит. И никто не видит. Не видит и Анюта даже.
— Где ж увидать, пасмурь кака… — говорит Горкин из-под ладони, невесело, — да и глаза не те уж.
Монах говорит, что это — как сподобит. Бывает — видят. Да редко отсюда видно, поближе надо. А я-то видел. Говорю, что розовая свеча, до неба, и крест золотой на ней. Но мне не верят: помстилось так. Я стараюсь опять увидеть, закрываю глаза… — и слышу:
— Нагнал-таки!..
Отец!.. Скачет на нас, в белой своей кургузке, в верховке-шапочке, ловкий такой, веселый. Спрыгивает с Кавказки — и не может стоять, садится сразу на корточки, — так устал. Сидит все и разминает ноги. Я кидаюсь к нему, от радости. Он вскидывает меня, и я кричу ему в дочерна загоревшее лицо, что видел сейчас свечу… розовую свечу, пасхальную! Он ничего не понимает — какую еще свечу! Я рассказываю ему, что это кого сподобит… видят отсюда колоколенку — Троицу, — «как розовая свеча, пасхальная!» Он целует меня, называет выдумщиком и кому-то кричит, за нами:
— Эй, девчонка… земляника у тебя, что ли?..
И покупает целое лукошко земляники, душистой, спелой. Мы сидим прямо на траве, хотя еще очень сыро, и все едим землянику из лукошка. Отец кормит меня из горсти, шлепает по щекам — играет. Пахнет от его рук поводьями, черным, сапожным варом и спелой земляникой, — чудесно пахнет! Рассказывает, как проскакал-то лихо: в половине шестого из Москвы выехал, а сейчас девять только. Все удивляются. Покупает еще лукошко, угощает и ест горстями; катятся землянички по пиджаку. Говорит о Звенигороде, что успел побывать у Саввы Преподобного, застал обедню… о рощах у Васильчиковых в Коралове: «Такие-то рощи взял!» Полтораста верст проскакал — устал.
— Ну, поскачу поспать. В монастырской гостинице найдете… — И скачет на взмыленной Кавказке.
Будто прошло виденьем.
— О-гонь!.. — всплескивает руками Горкин, — и был, и нет!..
Я смотрю на грязную дорогу, на темнеющие боры по дали. Ни отца, ни розовой колоколенки, ни искры.
— Дай-ка, я те вытру… весь лик у те земляничный, папашенька как уважил… — смеется Горкин и вытирает меня ладонью. — И был, и не был!
Я смотрю на лукошко с земляникой… — будто прошло виденьем.
Троица совсем близко. Встречные говорят:
— Вон на горку подняться — как на ладоньке вся Троица!
Невесело так плетутся: домой-то идти не хочется. Мыто идем на радость, а они уж отрадовались, побывали-повидали, и от этакой благодати — опять в мурью[32]. Что же, пожили три денька, святостью подышали, — надо и другим дать место. Сидят под елками — крестики, пояски разбирают, хлебца от Преподобного вкушают, — ломтем на дорожку благословил. На ребятках новые крестики надеты, на розовых тесемках, — серебрецом белеют.
Спрашиваем: ну, как… хорошо у Троицы, народу много? Уж так-то, говорят, хорошо… и надо бы быть лучше, да некуда. А какие поблаголепней — из духовного причитают:
— Уж так-то благоуветливо, так-то все чинно-благоподатливо да сладкогласно… не ушел бы! А народу — полным-полнехочко.
— Да вы, — говорят, — не тревожьтесь, про всех достанет. А чуть нестача какая — похлебочки ли, кашки, — благословит отец настоятель в медном горшке варить, что от Преподобного остался, — черпай-неочерпаемо!
Радостная во мне тревога. Троица сейчас… какая она, Троица? Золотая и вся в цветах? Будто дремучий бор, и большая-большая церковь, и над нею, на облачке, золотая икона — Троица. Спрашиваю у Горкина, а он только и говорит: «А вот увидишь».
Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух после дождя благоуханный, свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым ладаном. Домна Панферовна говорит — в Ерусалиме словно, кипарисовым духом пахнет. Там кипарис-древо, черное, мохнатое, как наша можжевелка, только выше домов растет. Иконки на нем пишут, кресты из него режут, гробики для святых изготовляют. А у нас духовное дерево можжевелка, под иконы да под покойников стелют.