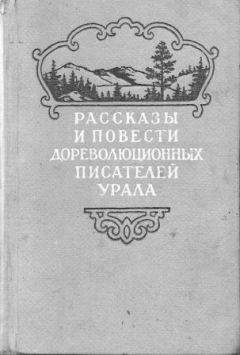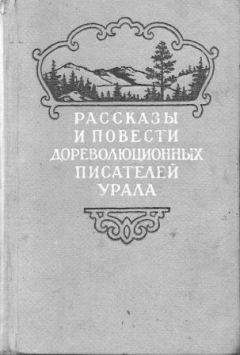В это время в контору ворвалась Егоровна и с воплем повисла на шее у Гриши. Истерзанный стыдом, болью и злобой, Гриша сурово оттолкнул ее и пошел из конторы, побрякивая кандалами. Егоровну тоже хотели вывести вслед за ним, но она бросилась в присутствие, куда ушел Чижов писать донесение, и плача ползала у него в ногах, прося за своего любимца, но дождалась только того, что ее велели вывести и не впускать больше. Она села на конторском крыльце и предалась сильнейшему отчаянию. Смотрел на все это Набатов и только кусал до крови свои посиневшие от душившей его злости губы. Выходя из конторы, он сказал Егоровне:
— Полно выть, старуха, вставай-ка лучше да пойдем ко мне.
И, не дожидаясь ответа, он быстро сошел с крыльца и пошел домой. Егоровна встала и покорно последовала за ним.
Придя домой, Набатов сказал дочери:
— Наташка, не отпускай тетку, покуда я домой не ворочусь.
И стал одеваться по-дорожному, ожидая, что Наталья спросит его, куда он. Но Наталья молчала. Вынул он из сундука бумажник с деньгами, привязал его к шнурку, на котором носил большой медный крест, и, взяв шапку, готовился выйти из избы.
— Я пойду в Кужгорт, — сказал он, не глядя ни на Наталью, ни на Егоровну и не обращаясь ни к той, ни к другой в особенности.
— Будь отец родной, — взвыла Егоровна, — заступись за сироту, бог тебе за это заплатит. — И она хотела поклониться Набатову в ноги. Тот нетерпеливо удержал ее рукой и сказал с сердцем:
— Сказано, что иду, так чего тебе еще надо? Что могу, то и сделаю без просьбы. — И он, перекрестившись, пошел к двери.
— Сходи в полицию, скажи Грише, что я ушел начальство за него просить, — прибавил Набатов, взявшись за скобу, — да поживи до меня с Наташкой, пособи ей.
И Набатов вышел. У ворот он встретился с Груней, которая шла к ним с узелком подмышкой. Поклонившись ему, Груня с минуту смотрела ему вслед, спрашивая себя, зачем это он такой сердитый и куда пошел. И потом бегом бросилась на лестницу. Она знала, что Гриша арестован по подозрению в краже подшипников, но и только. Войдя в избу и поздоровавшись с Натальей, она тотчас обратилась к Егоровне с расспросами и узнала от нее все остальные подробности дела.
— В кандалы заковали! — плача, закончила Егоровна свой рассказ. — На поселенье хочет его Чижов в Сибирь послать.
— Да разве он душегуб какой, что его в Сибирь на поселенье? Да за что? Да как он смеет, — горячилась Груня. — У, чтоб ему, проклятому, ни на том свете, ни на этом. Сквозь землю бы ему, в самые тартары провалиться, собаке!
И долго еще она злилась и кляла Чижова, призывая на его голову всевозможные бедствия. А Набатов между тем усердно шагал по дороге в Кужгорт, обливаясь потом. Он снял с себя свой суконный бешмет, связал его опояской и повесил за плечи. Снял и поярковую шляпу и нес ее в руке, подставив свою голову под яркие лучи июльского солнца. Не отошел он еще и пяти верст, как его обогнала ямская телега парой. В ней ехал нарочный служитель, посланный Чижовым с донесением к управляющему.
Прошло два томительных, длинных для Гриши дня. Вечером второго дня в Кумор привезли почту, а с ней и решение Гришиной участи.
О том, что почта пришла, Гриша узнал в тот же вечер, но решение о себе узнал только на другой день в десять часов утра в конторе. «Сослать на шесть месяцев в работу в Алакшинские рудники» — предписало правление, и Гриша вздохнул несколько свободнее. Он боялся, чтоб не было чего хуже, да и не он один боялся этого. В конторе говорили, что такое милостивое решение по делу Гриши сделано, вероятно, только по просьбе, его дяди, а что иначе Грише не миновать бы солдатчины. Чижов заметно был недоволен таким решением и говорил в конторе, что Гришу следовало бы, по крайней мере, отдать в работу на рудники года на три. Отправить его в Алакшинский завод, отстоявший в двухстах верстах от Кумора далее к северу, Чижов приказал на другой день поутру. Кандалов снимать не велел. Весь день Гриша с величайшей тревогой ждал возвращения Набатова из Кужгорта; и уж начинал думать, что ему не придется увидеться с дядей до отправки, как вечером пришла Егоровна и сказала, что Набатов пришел домой и скоро будет в полицию. Через полчаса Набатов действительно пришел в полицию; он был очень угрюм и очень утомлен и, войдя в арестантскую, тотчас же сел и несколько времени сидел молча.
— Что, милый, — спросил он, наконец, Гришу, — все еще в кандалах?
— Так и везти приказано, — ответил Гриша. — Неужли их и там с меня не снимут?
— Как не снять, снимут! — сказал Набатов. — Просил я за тебя, Григорий, всех, и управляющего, и членов, и все сказали, что нельзя тебя простить за буйство, — стал рассказывать Набатов. — Для примеру других, говорят, наказать надо. Один только Углов сказал, что он напишет в Алакшу, чтоб тебя в рудниках не морили, а заставили бы робить в кричной, как и здесь робил, а больше этого ничего не мог выпросить.
Набатов понурил голову и замолчал; молчал и Гриша; только его мать, вздыхая, шептала иисусову молитву и терла рукавом рубахи свои распухшие глаза. Она уж выплакала все свои слезы и теперь только стонала и вздыхала, наглядываясь на своего милого сына, возвращения которого она не надеялась дождаться.
— Что делать, — заговорил опять Набатов, — надо потерпеть. И жалко мне тебя, парень, а пособить нечем; кабы можно было деньгами откупиться, так я бы уж и денег не пожалел, да управляющий спервоначалу сказал, что нельзя простить: «Другим, говорит, будет повадно, и то уж народ весь извольничался — начальство ни во что не ставит». Я было стал ему обсказывать, как и что было: безвинный, мол, поклёп на парня взвел сосед по насердке, а он на это: «После, бает, я это дело разберу, а теперь и просить нечего». Так с тем и ушел.
И Набатов опять понурил голову и задумался. Видно было, что сознание своего бессилия и полнейшей зависимости от начальства тяжело давило его. Он несколько раз поглядывал на Егоровну, уныло слушавшую его рассказ, как будто она мешала ему, но не сказал ей ни слова. Егоровна, наконец, встала и спросила у Набатова, вместе ли пойдет он с ней или останется.
— Ступай одна да ложись спать. Утром ведь надо раньше вставать да стряпать подорожники Грише, — сказал ей Набатов. И когда она вышла из арестантской, он встал и выглянул вслед за нею в другую комнату. Там никого не было, кроме сторожа и рассыльного мальчишки, спавшего на лавке. Было уж часов двенадцать ночи, и все из полиции ушли. Арестантов только и был один Гриша. Набатов возвратился и сел опять на прежнее место.
— Слышал я в Кужгорте, что Чижову смена будет в этом году, — заговорил Набатов, не глядя на Гришу и стараясь придать своему голосу совсем равнодушный и спокойный тон. — Провинность, говорят, за ним есть большая. Углов все у меня про него расспрашивал: каков-де он с народом, да как к нему народ, да как дела в заводе идут.
— Дай-то бы бог, чтоб его поскорее убрали! — вздохнул Гриша. — А кого на его-то место изладят — не слыхать?
— А есть ведь у них там, небось, недостатка не будет. Недостаток у нас в рабочих бывает, а в начальниках никогда, — злобно сказал Набатов, вставая с лавки и выпрямляясь во весь рост. — Только не бывать этому так и обиды своей я не прощу Чижову. Он от меня не уйдет.
Гриша, вполне сочувствуя дяде в его ненависти к Чижову, хоть и желал, чтоб его постигли всевозможные напасти, однако же не желал, чтобы они постигли его через Набатова. Мысль о том, что Набатов при своей горячей, неукротимой натуре легко может решиться на убийство, уже не раз приходила ему в голову с того вечера, как между дядей и племянником произошел первый откровенный разговор, из которого Грише выяснились все причины ненависти Набатова к Чижову. И теперь, взглянув на Набатова и встретив его сверкающий злобный взгляд, он опять подумал то же и испугался.
— Полно, дядя, — сказал он ему тихонько, — не говори таких речей. Пусть его бог накажет за нас.
— А что, разве у тебя уж зажила спина-то, что ты его на божью волю предавать стал? — мрачно спросил Набатов. — Не слыхал разве пословицы, что до бога высоко?.. Эх ты! Постегали тебя, так ты и укротился.
И в голосе Набатова слышалось что-то вроде укора. Гриша отвернулся и молчал. Он только крепко стиснул зубы и нахмурил брови, стараясь побороть свое волнение, вызванное этими словами.
— Нет моей возможности терпеть больше, — заговорил опять Набатов. — Ты только то рассуди, что какова теперь моя жизнь будет. Вот словно у нас в дому покойник лежит — так оно тихо да пусто.
И Набатов с тяжелым вздохом опять сел на прежнее место и задумался. Грише стало жаль дядю, и он придумывал было сказать ему что-то в утешение, но ничего не мог придумать.
— А коли, даст бог, воротишься домой, — заговорил Набатов после нескольких минут молчания, — да со мной без тебя какая ни на есть беда приключится, умру али что, так ты мою Наташку не брось, у нее только и есть родни, что ты: одна как перст останется.