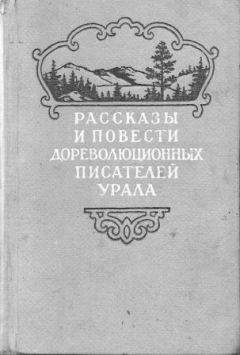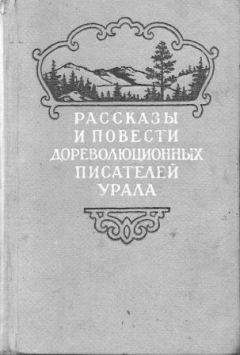И Набатов замолк опять, сильно взволнованный, и, помолчав, добавил глухим голосом:
— Она на ладан дышит, долго хлебом кормить не придется… Ну да и деньжонок я накопил немножко, на ее век достанет, да еще и тебе останется.
— Полно, дядя, что ты? Зачем тебе умирать? — прервал его Гриша. — Не бай об этом, мне и без того тяжко.
— Зачем не баять? Это не в нашей власти, и должны мы об этом завсегда помнить, — грустно сказал Набатов.
И долго еще, почти вплоть до рассвета, раздавались в арестантской голоса дяди и племянника. Прислушивался к ним дремлющий сторож и терпеливо ждал, когда они наговорятся и Набатов уйдет домой. Торопить же его уходить сторожу и не приходило в голову. Он и знал, что это было бы бесполезно. «Да и нельзя же в самом деле родным не покалякать промеж себя на прощанье. Ведь Алакшинские рудники не свой брат, и работа в них тяжкая, да и мало ли что человеку может приключиться», — думал сторож под неясные звуки голосов, доносившихся из арестантской. Уж на рассвете Набатов ушел домой и лег на свое обычное место — в санях под навесом, но заснуть не мог. Часов в шесть утра он и Егоровна уже опять были в полиции. У крыльца уже стояла пара лошадей с ямщиком на козлах и еще другим мужиком, который должен был проводить арестанта до места ссылки. Егоровна с таким безнадежным отчаянием причитала над своим сыном, что можно было подумать, что она расстается с ним не на полгода, а на всю жизнь. Набатов молчал, и только лицо его конвульсивно передергивалось всякий раз, как звенели цепи на ногах Григория, одевавшегося в дорогу. Скоро он был готов и, поклонившись в ноги матери и дяде, пошел садиться в телегу. Набатов дал ему на дорогу два целковых. Все время Гриша был спокоен и бодр, но, севши в телегу и оглянувшись на свою хилую старуху-мать, он не выдержал и заплакал.
— Поезжай мимо моего дому, — сказал Набатов ямщику, влезая на козлы, — пусть он с моей девкой простится — она его ждет у ворот.
Егоровну тоже посадили на край телеги и поехали. У дома Набатова остановились. У ворот вместе с Натальей, державшей узел с пирогами, стояла и Груня. Она еще накануне узнала о времени отъезда Гриши и пришла проститься с ним. Когда телега остановилась, обе девушки подошли к ней, и Наталья молча поцеловалась с Гришей и положила узел с пирогами в телегу. Поцеловалась и Груня и, вынув из-за пазухи шерстяные чулки, подала их Грише. Тот слегка отстранил их рукой и сказал:
— На что даешь, Аграфена Васильевна, не надо.
— Полно, Гришенька, возьми, зимой-то сгодятся, — убеждала покрасневшая Груня.
Григорий не отговаривался больше и, взяв чулки, положил их в узел с бельем, приготовленный матерью, и перецеловался еще раз со всеми. Затем провожавший его мужик сел в телегу и велел ехать. Егоровна кинулась было вслед за телегой, но Набатов удержал ее и повел в избу. А Наталья и Груня долго еще стояли среди улицы, глядя на удалявшуюся телегу и отвечая прощальными знаками на поклоны Григория.
Алакшинский чугуноплавильный и железоделательный завод, построенный на речке Алакше, протекающей между двумя высокими горами, обильными железной рудой, имеет весьма непривлекательный вид. Покрытые тощим ельником высокие горы, с обнаженными, изрытыми боками, вздымаются по обеим сторонам Алакши; по склонам их, изрезанным логами и угорами, расположены бедные невзрачные дома заводских мастеровых.
В одном из этих бедных домов нашел себе пристанище наш ссыльный. С него по приезде в Алакшу сняли кандалы и, выдержав его еще с неделю под арестом в заводской полиции, наконец, отпустили в квартиру с строгим наказом не бегать.
— Убежишь — хуже будет, — сказал ему приказчик, — потому что поймают и опять сюда же пришлют. А тогда уж кандалов не снимем да и из полиции не выпустим.
Но эти увещания были бесполезны, Гриша и не думал бежать. Затаив глубоко в сердце всю свою ненависть и злобу, он решил терпеливо вынести время ссылки. Сначала его заставили работать наверху, и работа не казалась ему особенно тяжела. Но когда пришлось опуститься в шахты глубиной сажен на шестнадцать, то Григорий сильно приуныл. Несносен был ему спертый, удушливый воздух в рудниках, и он с все возрастающим нетерпением ждал распоряжения из Кужгорта об освобождении его от работы в руднике. Но Углов или обманул Набатова, или забыл об обещании, данном ему, только никакого распоряжения в Алакшу не получалось, и Гриша, прождав его до октября месяца, надумал сходить к алакшинским приказчикам, попросить их о переводе его из рудников в кричную или хоть на какую-нибудь другую работу.
Мысль эта пришла ему в голову в одно холодное и туманное утро, когда Гриша, проработав в руднике ночь, вылез из шахты усталый и покрытый грязью и шел по дороге, где была его квартира. Туман в это утро был до того густ, что не было возможности видеть на два шага вперед, и как ни было холодно Грише в его мокром, облепленном жидкой красной грязью тяжелке, он поневоле должен был идти тихо. Кое-как, чуть не ощупью доплелся он до своей квартиры и, сняв мокрую одежду, развесил ее на печи для просушки, а сам сел на лавку и ждал завтрака, который только что начала приготовлять его хозяйка.
Он был очень голоден, очень утомлен и уныл, и его выразительные и умные глаза как будто потеряли свой блеск и как-то тупо следили за движениями хозяйки, стряпавшей лапшу. Скоро лапша сварилась, и хозяйка, перелив ее из котелка в чашку, поставила на непокрытый стол, положила возле нее ложку и краюху хлеба и пригласила Гришу за стол. Пока он ел, хозяйка его стояла у лубочной люльки и печально глядела на спавшего в ней больного ребенка. Она была еще молодая женщина с некрасивым и бледным лицом, на котором суровая бедность наложила свой тяжелый отпечаток, как будто застыло на ее лице выражение покорного, тупого страдания. Она доживала замужем четвертый год и собиралась хоронить своего третьего ребенка. Двое первых точно так же, как и этот, томились по нескольку недель в лубочной люльке и потом умирали.
«Умрет и этот», — думалось бедной женщине, и щемило и ныло ее материнское сердце, когда она смотрела на худенькое, бледное личико, выглядывающее из-под грубых синих тряпиц, служивших ребенку постелью и одеялом. Тяжело вздохнув, отошла она от люльки и, поглядев в окно, сказала:
— Зачинает уже туман-от подыматься, можно уж тожно носить воду.
— Пустили постояльцев-то? — спросил у нее Гриша.
— Пустили еще троих, — отвечала ему хозяйка, выходя из избы.
Гриша вышел из-за стола и, влезши на полати, хотел было заснуть, но не мог, несмотря на свою сильную усталость. Ему все думалось, что будет он говорить приказчику и что скажет ему приказчик. Потом его мысль перешла на тяжелые рудничные работы, на работы в фабриках, более легкие, чем в рудниках, и еще более легкие поденные, или так называемые поторжные[8] работы.
«Вот бы хорошо, кабы мне хотя с недельку в поторжной поробить, — думалось Грише, — отдохнул бы я, а то уж совсем замучили в этих рудниках; силы у меня даже не стало». И он стал слезать с полатей и собираться идти к приказчику.
В избу вошла старуха в зеленой китайчатой шубе[9], с берестяным бураком в руках.
— Где Орина? — спросила она у Гриши.
— За водой ушла, — отвечал он.
Старуха заглянула в люльку и, промолвив: «все еще жив», села на лавку, поставив возле себя бурак.
— А Игнат на работе? — спросила она опять. Игнатом звали хозяина Гришиной квартиры, Ориной — хозяйку.
— На работе, надо быть, — сказал Гриша. — Я недавно пришел, никого уж не застал.
Вошла Орина с водой и, вылив ее в кадку, поздоровалась со старухой.
— Я тебе молока принесла, — сказала старуха, — ребенка-то покормить.
— Спасибо, — сказала Орина и прибавила, подойдя к люльке:- Нежилец он у меня, Степановна, почитай что ничего не ест.
Старуха тоже подошла к люльке.
— Пошто ты грудью-то перестала кормить? — спросила она.
— Да сам не стал брать. Молока-то у меня в грудях не было — так, малость самая, ну, он сосет-сосет, не попадает ничего — так и перестал.
— Ну и на что тебе ребят-то? Дело ваше бедное да нужное; умирают, так и пусть умирают с богом, — рассудила старуха.
— А мне вот жаль, — сказала Орина грустно. — Хотя бы один-от ожил, намедни в церкви была, свечку богородице поставила, не даст ли, мол, здоровья.
— А какой богородице-то? — спросила старуха.
Орина затруднилась и не знала, что отвечать на такой вопрос.
— Да известно, какой — богородице, да и только: одна ведь богородица-то, — отвечал за нее Гриша.
Старуха живо обернулась к нему.
— Как одна? — горячо заговорила она. — Что ты суешься, коли не знаешь? Молчал бы уж, — и потом прибавила внушительно: — Не одна, а двенадцать богородиц-то.
Гриша удивился, но так как его сведения по этой части были весьма ограничены, то он счел за лучшее промолчать.