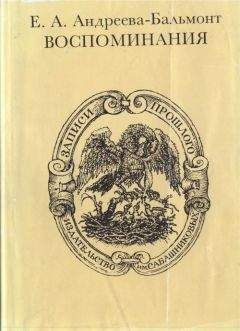Он никогда не был беспокойным и назойливым ребенком, хотя очень любил болтать, но делал это только тогда, когда его на это вызывали. При его внешности желающие с ним беседовать легко находились. Вот что рассказывают о начале одного такого знакомства в поезде. Одна пассажирка спросила его: "Ну, а как тебя зовут?" - "Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, - отвечает веско пятилетний Макс. - Но, если это вам кажется слишком длинно, можете звать меня просто Макс", - снисходительно добавляет он. Собеседница в восторге от такого ответа, и разговор продолжается до приезда на место назначения.
Говорить он мог до бесконечности, есть - тоже мог без конца, и в этом была драма его жизни 9, ибо жестокосердная мамаша строго дозировала его пищу. Я его очень жалела и пробовала за него ходатайствовать, но Елена Оттобальдовна очень серьезно мне сказала, что не может позволять Максу есть, сколько он хочет, без серьезного вреда для его здоровья, - и, таким образом, положила конец всяким моим просьбам. Ужасно потешно (но и немного жалко) было слушать разговоры матери с сыном по этому поводу: "Мам, а мам (выговаривалось как-то "мум"), мам-мама, мам-мама, я хочу..." - "Ну хоти, хоти", - отвечала совершенно серьезно, без тени улыбки, эта оригинальная женщина. За вечерним чаем ему выдавалось 3 ломтя хлеба и 3 куска колбасы. Сначала он съедал ломоть хлеба без колбасы, затем - с одним куском колбасы, и, наконец, наступал торжественный момент. Макс старался обратить на себя общее внимание и ел один ломоть хлеба с двумя кусками колбасы. Все это выходило у него до того потешно, что я через бесчисленное количество лет пишу об этом с невольной улыбкой.
Кто-то внушил ему, что самые лучшие огурцы - самые спелые, то есть самые большие и желтые, и он ко всеобщему развлечению просил огурец "побольше, да пожелтее, поспелее".
При игре в мнения его изречения всегда были очень оригинальны, как французы говорят, saugrenu *. Но при всей странности, они часто были не лишены известной меткости, а иногда даже глубины. Например, лично обо мне он сказал "Картонка с мозгом". Я действительно была в то время в периоде философствования по всякому поводу. Про меня как-то сказали: "Если Лине поручить описать, например, самовар, она тщательно опишет его внутреннее устройство и ни словом не обмолвится о его внешнем виде". Из чего видно, что, при некоторой нелепости формы, высказывание Макса доказывало его наблюдательность.
Максина молитва тоже была очень оригинальна. Как и большинство детей его времени, он утром и вечером читал "Господи, помилуй папу и маму" и кончал: "и меня, младенца Макса, и Несси **. Услыхав это, Валериан стал рассказывать, как Макс будет молиться в будущем. Сначала: "и меня, гимназиста Макса, и Несси", потом: "и меня, студента Макса, и Несси", и, наконец, когда он станет важным лицом: "и меня, статского советника Макса, и Несси". Как я уже говорила, такие шутки его нисколько не задевали. Он сам входил в них. Сколько веселья вносил он в жизнь даже и тогда.
* Нелепый (франц.).
** Несси - кормилица Макса, чешка.
Как-то, гуляя по депо Брестской дороги, мой дядя рассказывал Елене Оттобальдовне о каком-то протоколе, составленном по поводу вентиляционной трубы, мимо которой они проходили и которая лежала, зияя огромной страшной пастью. Макс стал спрашивать, что такое протокол. Увлеченный разговором, дядя махнул в сторону трубы и сказал что-то нечленораздельное, из чего Макс понял, что эта труба и есть протокол. Валериан не преминул укрепить его в этой мысли и прибавить, что туда сажают детей за дурное поведение. Долгое время после этого Макс пуще всего боялся попасть в протокол.
Будучи совсем маленьким, он рассказал, что сочинил стихи: "В смехе под землею жил богач с одной ногою". Как-то его спросили о его дне рождения, он долго не мог припомнить и наконец воскликнул: "Знаю, знаю: шестнадцатого мая". Тут уж получилась целая поэма, которой он очень гордился. <...>
Когда мы в следующий раз встретились с Максом, он был уже студентом, а я недавно замужем. Мы жили в Севастополе, и моя семья вся гостила у меня. Елена Оттобальдовна с ним приехала повидаться с мамой. Очень странно было увидеть своего друга с бородою... Хотя он был очень юн, но казался солиднее благодаря этому. Мы все вместе на двух извозчиках совершили поездку в Ялту. Какой он был интересный тогда, сколько декламировал стихов, своих и чужих!.. Как приятно было слышать их в чудной обстановке крымской природы! Приведу одно юношеское его стихотворение, которое [хорошо представляет] Макса в то время;
Думы непонятные
В глубине таятся,
Силы необъятные
К выходу стремятся.
Путь далек, душа легка,
Жизнь, как море, широка.
Дышится и верится,
И легко поется,
Силами помериться
Сердце во мне рвется.
Путь далек, душа легка,
Жизнь, как море, широка.
Сергей Иванов
ИЗ ЮНОШЕСКИХ ДНЕЙ
Мои первые воспоминания о Максимилиане Александровиче Волошине относятся к 1891-92 гг., когда он, насколько я помню, поступил в четвертый класс Московской 1-й гимназии. Он был, таким образом, на два-три года старше меня классом. Его близким товарищем по классу был Володя Макаров 1, хромой от рождения и, как нередко это бывало в те тяжелые времена, имевший несколько обиженное самолюбие, благодаря тому, что уличные мальчишки, завидовавшие его гимназической форме и кокарде, не упускали случая подчеркнуть ему его физический недостаток. <...>
Володя и Макс возвращались обычно вместе после уроков, и вот первому пришла в голову мысль также посмеяться над Максом и обратить на него то оружие, от которого он сам невинно и незаслуженно страдал. Собравши двух-трех таких сорванцов, среди которых оказался и я - ученик 1-го класса той же гимназии, он сказал нам, что Макс Волошин, с которым он ходит вместе из гимназии, отличающийся необыкновенной толщиной и неповоротливостью, очень любит, когда его щиплют сзади за мягкие части тела, а его неповоротливость гарантия в том, что мы можем доставить Максу это удовольствие безнаказанно. Наша сорвиголовость была установившейся репутацией, и потому, получивши конкретное задание, мы начали поджидать случая, когда можно будет привести его в исполнение. Когда толстый Волошин тяжело шагал по тротуару вдоль внутреннего проезда Никитского бульвара, мы выбегали из парадного крыльца, быстро делали свое дело и стрелой мчались на бульвар. Настал, однако же, день, когда Волошин, уже изучивший наши повадки, насторожился около места засады и, скося глазом, вовремя обнаружил замысел врага. Не успел я ущипнуть его как следует, как он быстро повернулся и дал ладонью такого тумака, что я растянулся на земле. Я помню только склоненные надо мной большие круглые добродушные глаза и просьбу оставить его в дальнейшем в покое. Эти встречи были основанием наших дружеских отношений. Мы встретились с ним через 35 лет, когда он был уже известным, крупным поэтом, а я профессором-биохимиком и физиологом. Оказалось, что Максимилиан Александрович хорошо помнит далекую картину из юношеских дней и вполне подтвердил воспоминание.
Михаил Дьяконов
ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ
Весной 1896 года я поступил в феодосийскую гимназию и вскоре после приема участвовал в чествовании И. К. Айвазовского. А может, это был торжественный парад по случаю коронации. Не помню хорошенько. Пожалуй, первое более правильно. В памяти моей осталась дата семнадцатое апреля, связанная как-то с Айвазовским 1. Весенних приемных экзаменов в тот год по случаю коронационных торжеств не было, и я поступал в конце учебного года, то есть в первых числах апреля. Айвазовский был попечителем гимназии, и потому гимназия принимала деятельное участие в этом торжестве.
У нас был введен военный строй. Гимназия состояла, кажется, из двух рот, и в каждой были командиры из старшеклассников. У командиров были знаки отличия: зеленые и синие кушаки поверх мундиров. Мое внимание привлекалось ко всему - так все было ново и необычно. Все старшеклассники казались какими-то рослыми, здоровенными молодцами. Среди них выделялся один, очень полный, но невысокий, с курчавыми волосами, более длинными, чем это разрешалось по гимназическим правилам. На гимназисте этом тоже был цветной пояс поверх мундира. Кто-то из сотоварищей назвал мне фамилию гимназиста: "Кириенко-Волошин" (так и потом всегда называли в нашем кругу Максимилиана Александровича). От старшего моего брата, переходившего тогда в шестой класс, я узнал, что Кириенко-Волошин учится в седьмом, то есть переходит в восьмой класс, и является гимназической знаменитостью: он пишет стихи - одно это заставило меня замереть от восхищения, - и стихи эти печатаются в газетах и журналах 2. С Кириенко-Волошиным очень считаются все учителя и даже сам директор, грозный и великолепный чех, Василий Федорович Гролих. И товарищи талантливого гимназиста, и учителя в один голос твердили, что это будущий стихотворец, поэт "божией милостью".