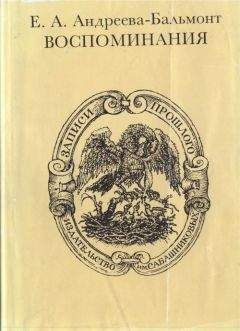Конечно, с этого момента я стал взирать на Максимилиана Александровича с особым уважением и трепетом. Прежде всего на меня, как на малыша, вообще действовал авторитет старшеклассника, а во-вторых, я почувствовал чрезвычайное почтение к особе будущего настоящего писателя. В семье нашей много читали, страстно преклонялись перед памятью великих поэтов, и мысль о знакомстве с новым поэтом, быть может, тоже знаменитым впоследствии, была мне невыразимо сладка...
Позднее я услышал, что Максимилиан Александрович - сын вдовы, которая купила участок земли в Коктебеле и обычно живет там. Вдова эта не походит на обыкновенных феодосийских дам - ездит верхом в мужском костюме, сама ведет хозяйство и очень самостоятельна во всех своих поступках. Про Коктебель я знал и не раз ходил через горы со своими друзьями в Двухъякорную бухту, но по малолетству нам никак не удавалось перевалить через южную цепь в Енишары.
Зимой 1896 года наш учитель русского языка и словесности Ю. А. Галабутский 3 выбрал меня в числе пяти маленьких гимназистиков для участия в гимназическом спектакле, который должен был идти, кажется, на Рождество. Перед этим блестяще прошел "Ревизор", в котором, насколько помню, участвовал и Кириенко-Волошин (как будто бы он играл Городничего) 4, и успех спектакля развил во всех гимназистах стремление сыграть на сцене. Для нас - пяти мальчиков - был выбран тургеневский "Бежин луг" - не инсценировка этого чудесного рассказа, а чтение в лицах всей 2-й части, которая построена на диалоге. Режиссером был назначен Максимилиан Александрович. Он взялся за работу с большим рвением, и я до сих пор помню, как мы часами декламировали и играли в полуосвещенном классе под руководством Максимилиана Александровича. Он изучал с нами каждое слово, каждую интонацию и положил немало труда, чтобы добиться успеха. И успех был! По словам зрителей, хотя и немного пристрастных - ведь это все были родственники и добрые знакомые актеров, - мы, мальчуганы, читали изумительно! Нас вызывали без конца. Максимилиан Александрович все время стоял за кулисами, подбадривая нас, пока мы были на сцене, и дирижировал группой восьмиклассников, изображавших собак. Помните лай сторожевых псов, когда они почуяли волка? Этот лай отлично передавали семиклассники и восьмиклассники, спрятавшись за кулисами. После спектакля наши родные и мы сами горячо благодарили Ю. А. Галабутского и Максимилиана Александровича, а те, в свою очередь, не скупились на похвалы. <...>
Весной 1897 года Максимилиан Александрович кончил гимназию, и я больше его не видел в Феодосии. Спустя два года отца моего перевели на службу в Ташкент. И вот, кажется, в 1900 или в 1901 году Максимилиан Александрович тоже оказался в Ташкенте 5. Меня он не узнавал при встрече, а я сам по детской скромности и нерешительности не подходил к нему. Старший мой брат, хорошо знакомый с Максимилианом Александровичем, был в университете, и потому связь с Волошиным было не через кого установить. Помню, что Максимилиан Александрович был одет весьма эксцентрично: на нем была широкополая "бандитская" итальянская шляпа, а через плечо шла широкая перевязь с надписью: "Le trovatore!" * Обыватели принимали Волошина за иностранца. Что он делал в Ташкенте и для чего туда приехал - не знаю.
* Трубадур (искаженное итал.).
<...> Летом 1932 года я впервые попал в Коктебель. Перед приездом я написал письмо Максимилиану Александровичу, о котором мне рассказывал незадолго перед тем Евгений Иванович Замятин. В Коктебеле мне не удалось повидаться с Волошиным как следует. Максимилиан Александрович чувствовал себя очень неважно, и мне совестно было его тревожить. Мы встретились как-то на берегу, а потом я заходил к Максимилиану Александровичу попрощаться. К несчастью, наше расставание действительно явилось прощаньем: через несколько дней после моего отъезда Максимилиан Александрович скончался...
Во время беседы я напомнил Максимилиану Александровичу о старых гимназических годах, и он с живостью заметил, что постановку "Бежина луга" он отлично помнит. Конечно, он никоим образом не мог узнать в своем собеседнике одного из тех маленьких мальчиков, с которыми он возился много лет тому назад.
Федор Арнольд
СВОЕ И ЧУЖОЕ
На первом курсе университета познакомился я с друзьями-неразлучниками Михаилом Лавровым, студентом-филологом, сыном издателя "Русской мысли", и с коллегой по юридическому факультету - Мишелем Свободиным 1.
Михаил Лавров, которого товарищи называй "Мигуйлой", - высокого роста, немного сутулый, с крепко сшитой фигурой, с каштановой бородкой, усами и открытым, немного топорным русским лицом, был своеобразным и интересным человеком. Он любил жизнь, верил всем своим существом в ее действенные и вечно обновляющиеся силы и умел украшать ее покровом своей буйной фантазии. Он как бы заставлял пульс жизни биться сильнее. Каждое занятие было священнодействием. Он устраивал все как-то так, что это было интересно и забавно, и заставлял всех принимать невольное участие в этой игре. Так, для рыбной ловли были одни церемонии, связанные с жизнью рыб, о которых он увлекательно рассказывал, подбирал особые удочки; при выпивке, которая называлась "принятие винной пищи", - другие обряды. Поскольку эти церемонии как-то отражали горевший в его душе огонь, они принимались нами с охотой. Каждый при этом стремился внести в них что-нибудь свое - серьезное или шуточное.
Мишель Свободин был поэтом. Его лирические стихотворения встречали одобрение Гольцева 2, Чехова, Потапенко, позднее очень ценились Горьким и Савиной, которой Мишель посвятил свой стихотворный перевод пьесы "Покрывало Беатриче" Шницлера и которая была дружна с его отцом - известным петербургским актером, умершим на сцене. Еще ранее, учеником старшего класса московской гимназии, он напечатал в "Русской мысли" интересную заметку об этом старинном особняке, его вестибюле и лестнице, где, по преданию, происходили события, описанные в "Горе от ума". Мишель Свободин представлял из себя маленького востроносого человека с немного веснушчатым бритым актерским лицом, в пенсне с широкой тесьмой, с высочайшим, подпиравшим голову воротником. Его немного пшютоватая внешность освещалась взглядом серых выразительных глаз, в которых блестел то юмор, то вдохновение.
Иногда он был язвителен, иногда мечтателен и сентиментален. Наш общий приятель рассказывал мне, что однажды, проходя мимо дома, где жила когда-то любимая им девушка, Свободин благоговейно снял фуражку. Швейцар, стоявший у подъезда, с удивлением посмотрел на него и, в свою очередь, ответил на поклон, сняв картуз. Свободин невозмутимо подошел к швейцару, пожал ему руку и ласково сказал: "Друг мой, есть вещи, которые не следует принимать на свой счет". <...>
Во время моего пребывания на втором курсе юридического факультета в университете снова возникли студенческие волнения, в результате которых мы отказались держать экзамены. Когда волнения уже окончились, но двери университета были заперты, Мишель Свободин, с большой, суковатой палкой, так не подходящей к его виду сноба, подошел к этим дверям и принялся их дубасить - Мишель, столь далекий от политики... Но разгадка была проста. Уже два месяца он был по уши и, как всегда, безнадежно влюблен в греческую деву из Феодосии, гостившую в Москве. Дева уехала обратно в Феодосию. Денег для того, чтобы ехать за ней, не было. И Мишель придумал ехать на казенный счет. Он колотил палкой в двери университета до тех пор, пока его не забрали в полицию, а оттуда, где он гордо заявил о своем сочувствии к бунтовавшим студентам, - в жандармское управление. Там сперва не знали, что с ним делать, потом решили все же, на всякий случай, выслать из Москвы - и, так как провинность была невелика, предложили самому выбрать место ссылки. Вы можете догадаться, какой город выбрал Мишель и куда был отправлен на казенный счет, так как заявил, что своих денег на поездку у него нет (что было справедливо).
Незадолго перед этим Мишель познакомил меня с другим студентом, ставшим на всю мою жизнь большим другом, - прекрасным поэтом Максимилианом Александровичем Кириенко-Волошиным. Издали Макс был похож на портрет Маркса, только был очень толстый (хотя и подвижный), с легкой походкой, пышной шевелюрой рыжеватых волос и лучезарной улыбкой на лице. Во время беспорядков он сидел в тюрьме 3, сочинял стихи и пел их, ходя по камере. Его веселость и выдумки были непостижимы. Жандармы вызвали его мать, всегда ходившую в мужском костюме, немного экстравагантную, с добрым и прямым сердцем, и допрашивали ее о причинах веселости сына. Когда она ответила, что он всегда такой, они посоветовали скорее женить его, предполагая, очевидно, что женитьба - самое верное средство от излишнего веселья. Затем, так же, как Мишеля, его выслали в Крым, где в Коктебеле у его матери был небольшой домик.
Погруженный в книги, летом сидел я у себя в Петровско-Разумовском, изредка лишь делая прогулки на велосипеде. И вдруг пришло письмо. Мишель сообщал, что отвергнут, что он в ужасном состоянии, близок к самоубийству, и что один я могу принести ему утешение. Так как тогда все это переживалось совершенно серьезно, то я с трудом собрал сто рублей и поехал в Крым.