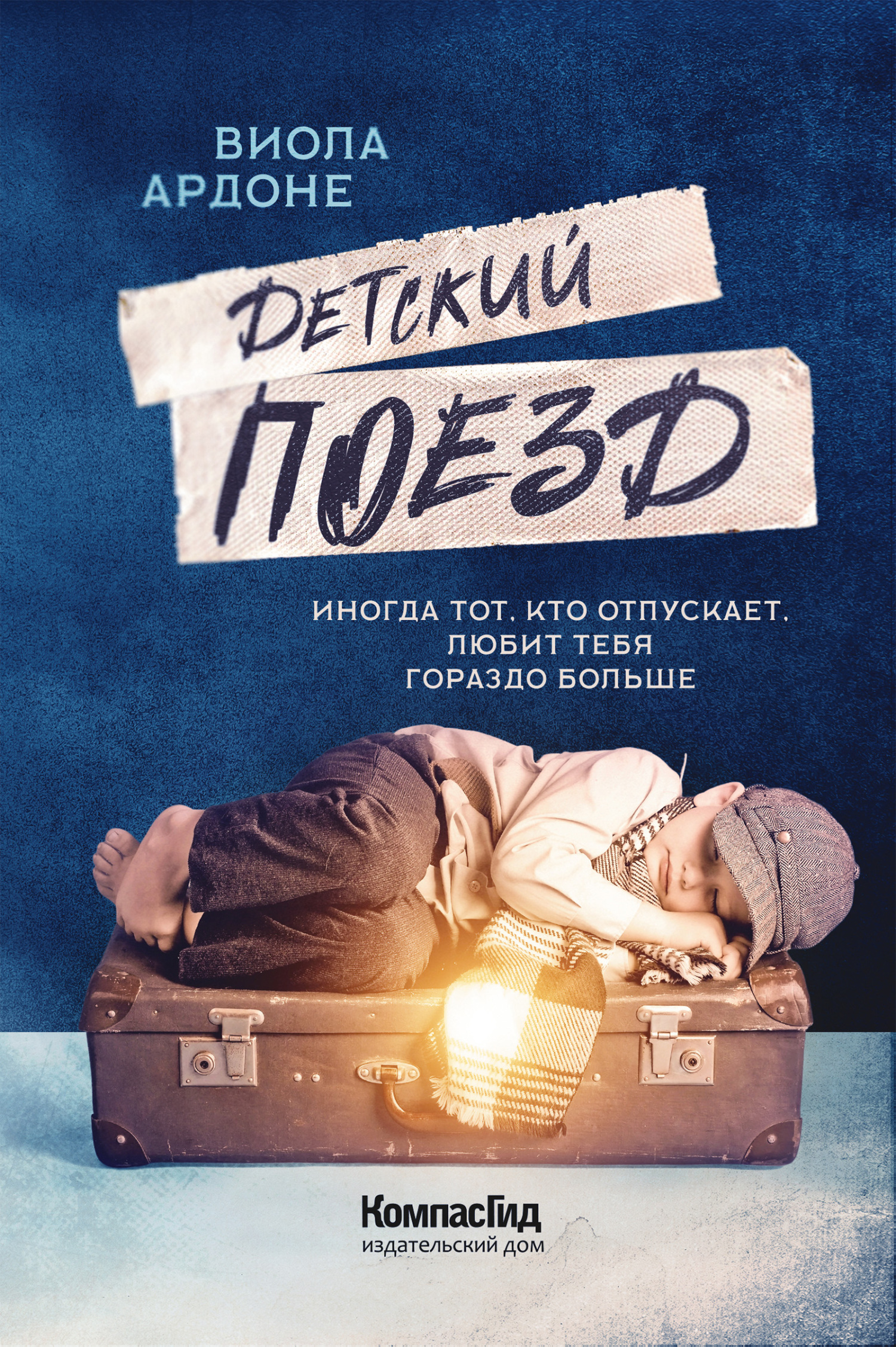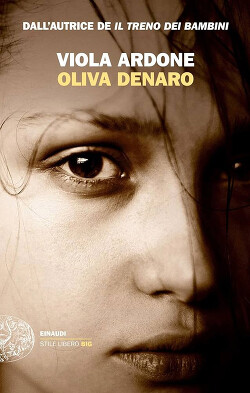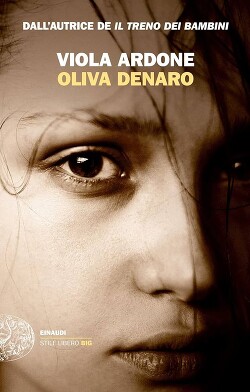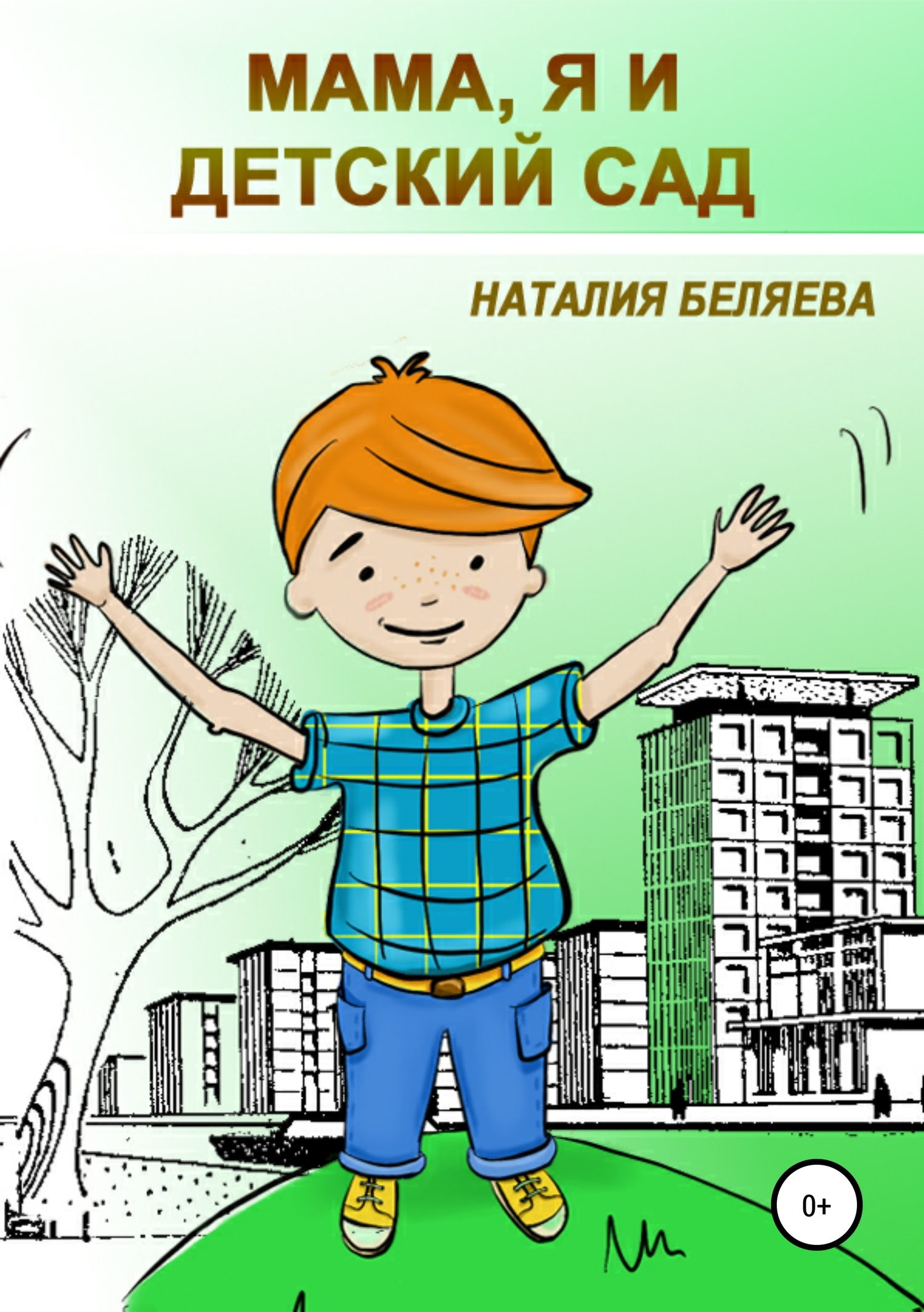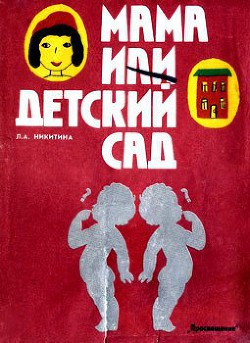синьору за руку – боится, что та откажется и оставит её с нами. Но синьора и не думает отказываться – наоборот, себя от радости не помнит:
– Вот увидишь, столько всего я тебе ещё подарю! Забудешь и думать об именинах, доченька!
Забыть об именинах – такого я понять не могу, да и Мариучча, кажется, тоже. Но в руку доброй синьоры вцепляется мёртвой хваткой, чтобы та уж точно её не бросила. Мне кажется, она напоминает Мариучче покойную мать, царствие ей небесное, – хотя кто его знает. Ясно одно: Мариучча машет нам и уходит. А мы остаёмся вдвоём в огромном зале.
Но тут к Томмазино подходит тот синьор с густыми седыми усами, протягивает руку.
– Приятно познакомиться, я Рад! – говорит он с хитринкой в глазах, будто дразнится.
– Я тоже рад… – отвечает Томмазино и, вытерев руку об штаны, здоровается как взрослый. Усач не понимает шутки, но продолжает:
– Ну-с, загорелый молодой человек, хочешь пойти со мной?
– Небось, и попотеть придётся? – по-деловому интересуется Томмазино, прикидывая, в поле или в доме придётся работать.
– Что ты, автомобиль буквально за дверью. Какие-то полчасика – и на месте.
– Автомобиль? Вы что, извозчик?
– Неужели похож? О, я понял! Этот юноша любит пошутить! У него есть чувство юмора! Пойдём-ка со мной, Джина ждёт, ужин уже на столе, всё горячее!
При словах «ужин», «стол» и «горячее» Томмазино не задумываясь подсекает эту крупную рыбу.
– До свидания, Амери, удачи тебе!
– И тебе всего хорошего, Томмазино! До скорого…
Томмазино тоже уходит, и я остаюсь на деревянной лавке совершенно один, в тесных ботинках и с тяжестью в животе.
Зажимаю пальцами глаза, чтобы остановить слёзы. Сидя в поезде вместе с остальными детьми – смеющимися, плачущими, носящимися взад-вперёд, – я чувствовал себя таким же сильным, как мой отец-американец. Пока Мариучча с Томмазино умирали от страха, я строил из себя взрослого, болтал, шутил… Я всё ещё был Нобелем. Но сейчас мне так же плохо, как в тот день, когда я откусил в Мерджеллине солёную сушку и, вдруг почувствовав острую боль во рту, обнаружил на ладони зуб. Побежал скорее к моей маме Антониетте, но она заперлась с Долдоном и ничего не слышала. Так что я пошёл к Хабалде, и та усадила меня на стул, развела в стакане воды «Гидролитин» [15] с лимоном, чтобы обеззаразить ранку, и объяснила, что в один прекрасный день зубы у человека начинают выпадать один за другим, в том же порядке, в каком появлялись, и на их месте вырастают новые.
А сейчас я сам – будто выпавший зуб: на том месте, где я был раньше, зияет дырка, а новый на замену ещё даже не виден. Ищу глазами ту синьору в платье с красными цветами: может, уже передумала и хочет за мной вернуться? Или решила сперва посмотреть всех детей, а потом уж выбирать? Как всегда говорила Хабалда, отправляясь за фруктами: «Не останавливайся у первой попавшейся таверны!» И действительно, мы с ней обходили всех окрестных торговцев, чтобы узнать, у кого товар лучше. Хабалда совала нос в каждую корзину с дынями, глядела, нюхала, потом двумя пальцами нажимала на кожуру – проверяла, созрела ли, а то вдруг зелёная? Может, и с детьми так можно: пощупаешь – и поймёшь, хорошие мы внутри или плохие.
Синьора в платье с красными цветами и её муж тем временем всё кружат по залу вместе с девушкой, не выпускающей из рук чёрную книжечку, словно кого-то ищут. Я старательно держу спину прямо, но на этот раз ни слова не говорю, даже не дышу. Только приглядываюсь: нет, на маму не похожа. Это мне почудилось, потому что я скучаю по её улыбке. А те двое к выходу направляются – наверное, всё-таки передумали. Или просто достаточно зрелой дыни не нашли. Но нет, девушка с чёрной книжечкой зовёт их в дальний угол, где сидит щербатый: я и не заметил, что он тоже ещё здесь – думал, я один остался. Девушка подходит ближе, чтобы прочесть номер у него на рукаве, а он, смотрю, даже глаз не поднимает – знай себе чистит ногти, снова ставшие такими же чёрными, какими были, пока мы душ не приняли. Муж темноволосой синьоры с ним говорит, а тот не отвечает, только лениво кивает, вверх-вниз, вверх-вниз, будто одолжение делает. Потом встаёт и, прежде чем направиться за ними к выходу, в мою сторону оборачивается, рожу корчит, словно говорит: меня всё равно взяли, хотя я даже имени своего не сказал, а вот тебя – нет.
Да уж, выгодная сделка! Была бы здесь Хабалда, уж она бы им показала дыню получше… Но в одном щербатый действительно прав: я единственный, кого не забрал никто.
В другом конце зала Маддалена разговаривает о чём-то с синьорой в серой юбке, белой блузке и пальто нараспашку – должно быть, той, что увозит обратно детей, от которых все отказались: вон и значок с коммунистическим флагом на груди, и лицо строгое. Волосы у неё светлые – не такие, как у Хабалды, а более нежного, золотистого оттенка. Маддалена всё время трогает её за плечо и что-то шепчет. Синьора слушает, но не двигается и не оборачивается, даже когда Маддалена указывает на меня. Потом несколько раз кивает, словно говоря «да-да, хорошо, я этим займусь», и подходит ближе. Я встаю, одёргиваю куртку.
– Меня зовут Дерна, – говорит синьора.
– Америго Сперанца, – отвечаю я и протягиваю ладонь, как Томмазино тому седому усачу. Она пожимает, но как-то вяло. И неразговорчива – видно, хочет только поскорее меня домой отправить.
Маддалена на прощание целует меня в лоб:
– До свидания, Амери. Ты в хороших руках.
– Пойдём, сынок, не то опоздаем: время к ночи, – говорит синьора и тянет за собой. Мы спешим, она и я: как два вора, которые торопятся сбежать, пока их не накрыла полиция. Идём вместе, рядом, с одинаковой скоростью – ни быстро, ни медленно, – и вскоре выходим с вокзала на большую площадь, мощённую красным кирпичом и усаженную деревьями.
– Где это мы? – растерянно спрашиваю я.
– Болонья. Красивый город, но сейчас нам домой надо.
– А вы, синьора, значит, прямо домой меня и отвезёте?
– Точно, сынок.
– Но не на поезде?
– Давай-ка начнём с автобуса.
– Давайте, – киваю я.
Дойдя до автостанции, я уже весь дрожу.
– Замёрз? – спрашивает она. Я чувствую, как по телу бегут мурашки, но не понимаю, от холода это или от страха. Синьора расстёгивает пальто, распахивает его пошире и укрывает меня полой. – Боже правый, по такому морозу и такой сырости ребёнка без верхней одежды отправить…
Я